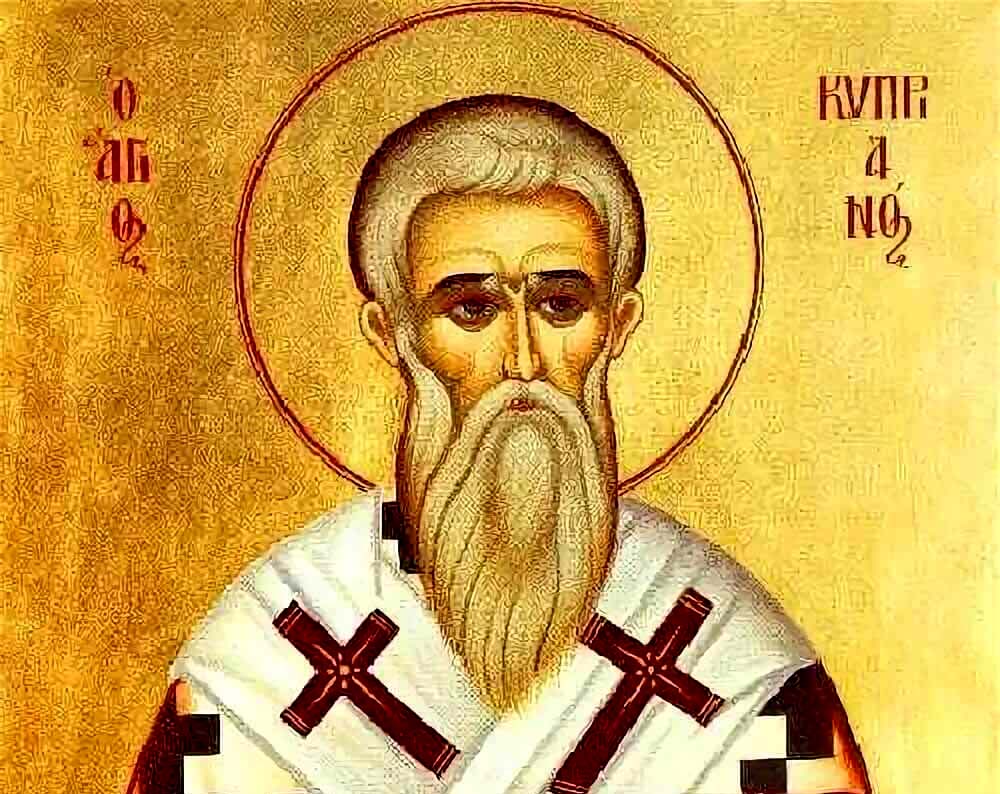Архиепископ Павел (Хорава)
Путь праведный
Часть I
Погружение или обливание?
Погружение или обливание?
Глава XVI
_______________________________________________________________
Ответ св. Киприана Карфагенского Магну
Надеюсь, ознакомленный с нашим трудом читатель теперь уже хорошо понимает, с помощью каких лукаво-"научных" изысканий Челидзе ведет борьбу с нашими христианами и с древлеправославием. В дебатах он всеми доступными способами пытается унизить достоинство оппонента, высмеять "неправильное" мышление, глубоко задеть религиозную индивидуальность, но фактически, при этом, выставляет на посмешище свои конфессиональные источники и аргументы, что не раз подчеркивалось и доказывалось выше, и вот, в связи с этим вопрос: надо ли и дальше подвергать сомнению, что все вышеозначенные бесчинства не соответствуют объективности научных изысканий и не являются хоть сколь-нибудь серьезными и уместными?
Мы уже практически выказались и доказали, что Челидзе – идеолог ереси, демагог и недобросовестный "ученый".
Было бы нелишним тут же упомянуть еще один некорректный метод "научного" исследования и полемики, заключающийся не только в затейливом вуалировании неудобных (в контексте индивидуальной концепции) фактов, но и в представлении заведомо искаженных источников. Таковые "факты", как правило, сопровождаются личной интерпретацией Челидзе и полны фантазией, ничего общего не имеющей с правдой. Как говорится, "кроет и шьёт" сподручно не только себе, но и адептам.
У нас накопилась чуть ли не дюжина примеров, часто приводимых адептами окропительного "крещения" в дебатах с нами. Оппоненты уверяют, что наглядно представляют правоту такого "крещения", намекая на глубочайшее "заблуждение" противников обливательно-окропительного "крещения". Вот почему мы не можем обойти стороной нашумевший в свое время внушительный полемический аргумент, каковым является - письмо св. Киприана Карфагенского к епископу Магну (по мнению некоторых исследователей звали его Магнус).
В своем "высоко-научном" труде "Душа живая", Э. Челидзе данному примеру посвящает, ни много ни мало, 24 страницы (стр. 288-312) и предлагает детальный анализ. Поскольку "глубокомыслие" г-на Челидзе растянуто не на одну страницу, ограничимся основными моментами авторских заключений, не нарушая ведущего смысла.
Мало того, что Челидзе твердо и смело раздувает смысл ответа св. Киприана, он еще и основательно искажает текст. Помимо этого, не гнушается привычной ему софистикой, сеет ложь и постепенно подводит читателя к готовым предсказуемым умозаключениям.
Уже первый абзац, посвященный обсуждению упомянутого ответа св. Киприана Карфагенского, изобилует наглой ложью и вот что утверждает в нем Челидзе: "В ответ на вопрос в отношении целесообразности обливательного крещения т.н. клиников и исходя из этого, касательно обливательного крещения, то есть, крещальной благодатности окропления и обливания освященной воды, как известно, в середине III века, окончательный ответ был дан великим священномучеником св. Киприаном Карфагенским, догматическое определение которого в отношении указанного вопроса никогда дополнительной проверке со стороны церкви не подвергалось", поскольку ответ Киприана являлся точной формулировкой догмата православной церкви, а не частным взглядом какого-либо деятеля". ("Душа-живая". Стр. 288).
С самого начала следует обсудить измышления, в правоте которых автор старательно уверяет читателя.
1. Ложь первая (Э. Ч.): "… касательно обливательного крещения, то есть, крещальной благодатности окропления и обливания освященной воды, как известно, в середине III века, окончательный ответ был дан великим священномучеником св. Киприаном Карфагенским".
Наше толкование: ответ, связанный с крещальной "благодатностью" окропления и обливания освященной водой, данный св. Киприаном епископу Магну, не окончательный.
2. Ложь вторая: (Э. Ч.): "…догматическое определение которого в отношении указанного вопроса никогда дополнительной проверке со стороны церкви не подвергалось".
Наше толкование: Мысль, высказанная св. Киприаном в отношении обливательного крещения клиников, не является догматическим определением.
3. Третья ложь: (В прежней фразе Э. Челидзе): "…догматическое определение которого в отношении указанного вопроса никогда дополнительной проверке со стороны церкви не подвергалось".
Наше толкование: церковь не только перепроверило обливательное "крещение", но и основательно отвергло". Более того, она никогда обливание нормой Таинства Крещения не считала и обсуждала всегда в контексте акта, совершаемого в крайне безвыходной, чрезвычайной обстановке.
4. Четвертая ложь (Э. Ч.): "… ответ Киприана являлся точной формулировкой догмата православной церкви, а не частным взглядом какого-либо деятеля".
Наше толкование: фактически, дело обстоит иначе: нет сомнений, что данный ответ является сугубо частным мнением священномученика Киприана, а не точной формулировкой догмата Церкви, в чем нас дополнительно убеждает сам Киприан Карфагенский.
Проследим, с каким подобострастием прибегает к софистической болтовне Э. Челидзе, пытаясь убедить читателя в циничную ложь. Это является образцом нахальной, безсовестной, безответственной, неприкрытой борьбы со святым Таинством церкви.
Прежде чем обсудить ответ св. Киприана, Челидзе опять внушает читателю ложь: "Отметим, что данный ответ Киприана был обусловлен также и обстоятельством, согласно которому, в пору епископства упомянутого деятеля надвигалась новая волна еретиков-схизматиков, для которых, как и для современных перепогружателей, существенным являлось учение о "повторном крещении" или - ребаптизации. Именно исходя из необходимости или отсутствия нужды в повторном крещении единожды крещенных обливательно и был задан ему конкретный вопрос, сформулированный упомянутым пастырем следующим образом…" … (Далее он приводит ответ св. Киприана. См. ниже).
В своем раннем антидревлеправославном труде "Церковь – невеста Божья", Э. Челидзе пишет: "Форма упрощения полного погружательного крещения была обусловлена с учетом создавшейся реальности, что наряду с различными обстоятельствами подразумевало и физическое положение человека, его физические возможности. Поэтому, также те, которые не могли принять погружение физически, разумеется, прибегали к "окропительному" крещению.
Как видно, интерес к вопросу – крещен ли истинно такой человек, изначален. Еще в III веке всем лжеправославным, усомнившимся в истинности "окропительного" крещения был дан внушительный ответ избранным отцом Церкви - священномучеником Киприаном Карфагенским (измучен 14 сентября 258 г). Сказать к слову, данный ответ был также обусловлен обстоятельством, согласно которому, в пору епископства св. Киприана надвигалась новая волна еретиков-схизматиков, для которых существенным являлось учение о "повторном крещении" (о ребаптизации). Именно для отрицания "повторного" крещения и было издано св. Киприаном следующее установление)" (Церковь – невеста Божья". Стр. 163).
Как видно из сказанного го-м Челидзе, св. Киприан отвечал двум категориям людей, о первой из которых упоминается в тексте: ""…всем лжеправославным, усомнившимся в истинности "окропительного крещения", в число которых надобно включить и Магна, поскольку и он ставил под сомнение каноничность такого "крещения", и, св. Киприан, как раз ему и, соответственно, через ответ к нему, всем православным христианам выказывает собственную позицию по поводу означенного в ней вопроса. В то же время, о второй категории говорится следующее: для схизматиков, которые учение о "повторном крещении" (ребаптизации), полагали существенным".
Надо ли вдаваться в подробности, говоря о градусе кощунства, когда истинно православного христианина означают лжеправославным по причине его сомнений относительно законности обливательного крещения, появляющихся на фоне естественного здравомыслия, потому как христианская практика не приемлет - "обливания" и "окропления" по причине их неапостольского происхождения и полного отсутствия в укладе Церкви.
Мы уже ознакомились с подтверждающими вышеозначенное, примерами, обсуждая происхождение крещения и правило его совершения, периодов с I по X в.
Отметим лишь то, что данный ответ св. Киприана не был адресован схизматикам-новатианам, равно как и другим представителям схизматических направлений, поскольку в ту пору подобных направлений не существовало. Ответ был адресован исключительно Магнусу и всем усомнившимся в законности обливательного крещения (хотя бы в крещении самих новатиан) православным.
Итак, ответ св. Киприана Карфагенского посвящен исключительно православным (по определению Э. Челидзе, "… находящимся в лоне Церкви "лжеправославным"", таким как Магнус…"), интересующимся мнением св. Киприана о тех, кто, получают благодать Божию, находясь в болезни и немощи…"должно ли их почитать законными христианами, когда они не омыты, но только облиты спасительной водой?" (Священномученик Киприан Карфагенский. Письма 62. Письмо к Магну о крещении Новациан и о получивших крещение в болезни. Творения святаго священномученика Киприана епископа Карфагенского. - Часть 1. Письма. – Изд. 2-е. Киев: Тип. Г.Т. Корчак-Новицкого, 1891).
Э. Челидзе так поднаторел ругать неприемлющих обливательное "крещение" древлеправославных, что без зазрения совести переключился на брань уже современника св. Киприана - древнего христианина (предположительно, епископа), который "умудрился" выразить сомнение в правомерности обливательного "крещения". Куда уж, с такой разнузданностью и наглостью, дальше? Что до еретиков-схизматиков, чье появление в ту пору было недавним и по поводу которых, собственно, и был задан вопрос св. Киприану, — это, так называемые, новатиане, которые, как известно, перекрещивали переметнувшихся к ним православных, о чем мы распространяемся ниже.
Итак, в чем заключается ложь Челидзе? Ответ св. Киприана был обусловлен не требованиями или деяниями еретиков-схизматиков-новатиан (или каких-либо других деятелей), но тем, что в самой Церкви существовала практика перекрещивания (ребаптизации) "клиников", крещенных обливательно. Этим занимались исключительно православные священники и епископы, а не еретики-схизматики - поэтому, собственно, и возник надлежащий вопрос. И в этом нас легко убеждает ответ самого св. Киприана.
Что касается, схизматиков-новатиан, они перекрещивали переметнувшихся христиан не потому, что последние, будучи "клиниками" обливались или окроплялись, но по причине полного неприятия православной формы крещения (не только клиников, но и погруженных), и, как говорит Челидзе (см. ниже), огромное значение среди них придавалось крещению по Новату, являющегося, кстати говоря, клиником, обливательно крещенным на ложе.
Как упоминалось выше, Э. Челидзе, следуя собственному анализу ответа св. Киприана, заключает, что св. Киприан в ответ на вопрос "…сообщает нам общее законоположение об обливательном крещении…" ("Душа-живая" стр. 289).
Ответ св. Киприана никак не может быть "общим законоположением", потому как, во-первых, таковое "общее законоположение" до св. Киприана каким-либо церковным собором или св. отцом не принималось, такого нет и в преданиях св. апостол, отражённых в самих "Правилах св. апостол", нет и в известном памятнике, под названием "Постановления св. апостол", в которых так же ни словом не упоминается "обливание" и "окропление". Во-вторых, св. Киприан не придавал собственному толкованию статуса "общего законоположения", как об этом лживо твердит Челидзе.
Ну а теперь предлагаем перейти к самому ответу св. Киприана и обсудить интерпретацию Э. Челидзе.
Св. Киприан карфагенский пишет: "Ты спрашиваешь еще, возлюбленный сын, моего мнения относительно тех, которые получают благодать Божию в болезни и немощи: должно ли их почитать законными христианами, когда они не омыты, но только облиты спасительной водой?"
Толкование Э. Челидзе: "Св. Киприан в ответ на вопрос, как было отмечено нами, доносит до нас общее узаконение (?), собственно, в отношении обливательного крещения и совершенно недвусмысленно узаконивает:
"Мы, сколько разумеет мерность наша, полагаем, что благодеяния Божии ни в чем не могут быть недостаточны и слабы, и что нельзя получить чего-либо меньше там, где с полною верою, и принимающего (крещаемого – Э. Ч.) и подающего (крестителя – Э. Ч.), приемлется то, что черпается из божественных даров" (Э. Ч. Там же. Стр. 289-290), (Э. Челидзе ссылается на латинский текст следующих слов св. Киприана и русский перевод издательства Киевской Духовной Академии: Творения святаго священномученика Киприана Епископа Карфагенскаго, Часть 1, Письма, Киев, 1891, с. 369-370).
Однако Э. Челидзе грубо упускает ключевую фразу, содержащуюся в ответе св. Киприана. Предлагаем полный текст отрывка, взятого из издания Киевской Духовной Академии:
"Ты спрашиваешь еще, возлюбленный сын, моего мнения относительно тех, которые получают благодать Божию в болезни и немощи: должно ли их почитать законными христианами, когда они не омыты, но только облиты спасительной водой? В этом отношении скромность и смирение наше никого не предупреждает своим мнением, ПРЕДОСТАВЛЯЯ ВСЯКОМУ ДУМАТЬ, КАК УГОДНО, И ПОСТУПАТЬ КАК ДУМАЕТ. Мы, сколько разумеет мерность наша, полагаем, что благодеяния Божии ни в чем не могут быть недостаточны и слабы, и что нельзя получить чего-либо меньше там, где с полною верою, и принимающего, и подающего, приемлется то, что черпается из божественных даров").
А вот перевод того же места в издании Московской Духовной Академии: "В этом отношении скромность и смирение наше никого не предупреждает своим мнением, ПРЕДОСТАВЛЯЯ ВСЯКОМУ ДУМАТЬ КАК УГОДНО И ПОСТУПАТЬ КАК ДУМАЕТ" (Св. Киприан епископ Карфагенский. Творения. Москва 1999 г. Изд. Паломник. Письмо к Магну о крещении новациан и о получивших крещение в болезни, стр. 646-650).
Продолжая цитации, хотелось бы отметить, что и на этом этапе очевидна не только грубая некорректность Челидзе, но и псевдонаучная методология и ложь.
Давайте вернемся вышесказанному. Э. Челидзе с самого начала увлекает читателя в сеть, измышляя, что якобы св. Киприаном Карфагенским - епископу Магнусу в связи с "крестильной благодатностью обливания-окропления", (1) был дан "окончательный ответ" (Э. Ч. "Душа-живая". Стр. 288), (2) что данный ответ являлся "догматическим законоположением" (там же), (3) что "… указанный вопрос никогда не перепроверялся Церковью" (там же) и, наконец, (4) что, якобы "… ответ св. Киприана представляет точную формулировку догмата православной церкви, а не частное мнение того или иного деятеля".
Как мы уже отмечали, мошенничество нашего "ученого" обнаруживается благодаря самому тексту св. Киприана Карфагенского, содержание которого искажается грубо - вырыванием слов из контекста и насаждением ложной интерпретации. Так Челидзе намеренно вводит читателя в заблуждение.
Даже одна вышеупомянутая фраза св. Киприана Карфагенского свидетельствует о том, что она не окончательна и не догматична, тем более, она не может быть точной догматической формулировкой, которую церковь никогда не перепроверяла. Почему? – потому, что св. Киприан ясно толкует, что его ответ в отношении обливательного крещения клиников является его сугубо личным мнением, - которое он не навязывает никому и никого ни к чему не принуждает.
Более того, св. Киприан предоставляет право: "…всякому думать как угодно и поступать как думает". А такое отношение к церковному догмату, судя по уверению и убеждению Челидзе, что это "… точная формулировка церковного догмата", является смешным и еретическим.
И действительно все это было бы смешно, если бы не было так грустно! Ради оправдания собственной стряпни (подразумевается попытка узаконения обливательного крещения), Э. Челидзе открыто приписывает св. Киприану то, что и на йоту не подразумевалось святым.
Он не давал нам точного догматического узаконения, заимствованного, скажем, из церковных определений, установленного или до жития Киприана или при жизни святого, либо составленного им самим.
Иначе, как можно полагать, что святой отец мог выразиться о таком догмате, что это его "личное мнение"? или – "…предоставить всякому думать как угодно и поступать как думает"? Неужели в отношении догматов так высказывались св. отцы, в частности, св. Киприан Карфагенский?
Подобная клевета в отношении св. отца, которого Челидзе называет "Великим священномучеником" (Э. Ч. "Душа-живая", стр. 288) и "Избранный отцом Церкви" (Э. Ч. "Церковь – невеста Божья", стр. 163) является в крайней степени кощунственной, а осыпание св. Киприана величественными эпитетами ("Избранный отец", "Великий священномученик") – фарисейством для завязывания глаз и голой ложью, поскольку подобное отношение служит цели - пустить пыль в глаза доверчивого читателя и распространить искаженное учение, ссылаясь на титулованного святого, авторитету которого должен покланяться каждый православный.
Вот почему парадоксально не выглядит то, что, с одной стороны, Э. Челидзе возвеличивает св. Киприана, а с другой - ругает и награждает эпитетом, каковым расщедривается в адрес всех сомневающихся в истинности обливательного крещения.
Судите сами: Э. Челидзе утверждает, что "… еще в III веке всем лжеправославным, СОМНЕВАЮЩИМСЯ в истинности "окропительного" крещения был дан исчерпывающий ответ избранным отцом Церкви – священномучеником Киприаном Карфагенским" … и уверяет нас в важности данного ответа относительно узаконения и "церковно-догматической значимости".
А на самом деле оказалось, что св. Киприан изначально открыто уведомил Магнуса, что никому не навязывает личную точку зрения, и всякому предоставлет: "…думать как угодно и поступать как думает". Это значит, что право усомниться в истинности обливательно-окропительного крещения было предоставлено самим св. Киприаном. Более того, дозволяет "… всякому думать как угодно и поступать как думает".
Итак, по оценке Э. Челидзе, "лжеправославным" получается не только Магнус или большая часть тогдашней церкви, не приемлющая обливательного "крещения", но и сам св. Киприан, который не только не осуждает повторного крещения клиников обличительным голосом (что было привычным для него в вопросах присоединения еретиков к церкви), но и позволял поступать по собственному волеизъявлению, что, исходя из логики Э. Челидзе означает "лжеправославность" (поскольку, по мнению Э. Челидзе это вызывает сомнение в отношении каноничности обливательного крещения). Челидзе считает, что нельзя (как по св. Киприану) "предоставлять всякому думать как угодно и поступать как думает". То есть, предлагает отвергнуть взгляд св. Киприана в отношении обливательного "крещения" и, если это ими не будет считаться крещением, пусть "крещенных обливательно" крестят заново.
Итак, если бы кто выразился в пору св. Киприана (или скажет ныне): "Полагаю, что обливательное крещение не является крещением, и крещенного таким образом, следует покрестить заново", и покрестил бы повторно "клиника" или "крещенного обливательно" (так и поступали, в чем легко убедимся ниже), то таковой никоим образом не стал бы противником св. отца или церкви;
Таковой не будет и еретиком, нарушившим тот или иной догмат, поскольку, как мы уже заявили, св. отец озвучил лишь собственное мнение, а не свое "догматическое установление" или "буквальную формулировку церковного догмата" (что являлось бы для всех обязательным и даже сам св. Киприан, давая ответ, не смог бы оставаться в отношении такового установления, в стороне). Но в отличии от св. Киприана, Э. Челидзе полагает, что "он" непременно будет являться "лжеправославным".
Вспомним также, о чем талдычил Э. Челидзе в своей новой книге (Душа-живая". Тб. 2012 г.): "Громогласно заявляем, что достаточно привести хотя бы один пример из святейшей истории Церкви, включая Вселенские Соборы (I-VIII), более того, из всей той шестнадцати вековой эпохи, которая предшествовало так называемому "староверию" (I-XVI вв.), именно один единственный несомненный пример того, что в православной церкви, из собрания огромного количества людей, крещенных обливательно, хоть кто-нибудь оказался повторно крещен, погружательно, в этой же православной церкви" (Э. Ч. Душа-живая". Тб. 2012 г., стр. 112-113).
"Достаточно" в отношении чего? - того, чтобы перестать бренчать сеющему ложь – Э. Челидзе!
Ответ св. Киприана Мангусу является одним из самых наглядных примеров того, что ни тогдашние христиане, ни сам св. Киприан ничего не слыхали об "узаконенном" в "Дидахе" обливательном "крещении" или что-либо наподобие этого - из преданий св. апостол или же церковных постановлений, так что крещение ими всегда совершалось - погружательно.
А в отношении клиников, когда прикованного к одру крестили обливательно (кстати говоря, в отношении такого крещения клиников использовалась вода в немалом количестве), в последствии такового крестили повторно, как крещенного не полностью или некрещенного вовсе … Делать иные выводы, попросту не представляется возможным, исходя из слов, с которыми мы ознакомились и внимательнее изучим ниже.
Таким образом, перефразируя слова Э. Челидзе, можно сказать, что "еще в III веке всем сомневающимся в истинности "окропительного крещения", не лже, а истинным православным был дан видный ответ избранным отцом церкви – священномучеником – Киприаном Карфагенским, который никому не навязывает своего мнения, никого ни о чем не предупреждает и более того, "предоставляет всякому думать как угодно и поступать как думает".
Но на этом не заканчивается лукавый замысел Э. Челидзе. Давайте проследим его рассуждение. Челидзе продолжает: "Пастырь тут же толкует предлежащую данность и выказывает очевидным полную несостоятельность материалистической "веры" тех, кто количество вещества сопоставляет с силою божественного, крестильного очищения так, как если бы в пору совершения данного Таинства имело место смывание физической грязи. (Э. Ч. "Душа-живая". стр. 290).
Тут Челидзе опять обращается к лукавству. Он переносит акцент на крестильное вещество, то есть, на количество воды и уверяет, что якобы св. отец в ответе к Магнусу "выказывает очевидным полную несостоятельность материалистической "веры" тех, кто "… количество вещества сопоставляет с силою божественного, крестильного очищения…".
Из вопроса Магнуса, с которым мы ознакомились, благодаря цитированию св. отца, никак не видно, что Магнус хоть каким-то образом заинтересован значением количества вещества в Таинстве Крещения. Он желает узнать, можно ли полагать обливательно крещенного человека крещенным (…"должно ли их почитать законными христианами, когда они не омыты, но только облиты спасительной водой?").
Давайте обратим внимание на взаимоисключающие друг друга термины - "омывание" и "обливание", и увидим, что "омывание" отождествляет погружательное крещение и в точности ему соответствует. Говорим об этом, поскольку в труде - "Душа-живая", оппонент представляет читателю омывание Исуса Христа в Иордане, как вхождение в воду по щиколотки и в состоянии склоненной главы – крещение - поливанием головы водой. Мы уже рассмотрели данный вопрос детально, но здесь, на этом конкретном месте повторно поясняем, что термин "омовение" означает погружение, а не мытье ног или вхождение в воду по щиколотки …
Тут еще яснее проявляется непоследовательность Э. Челидзе, которая убеждает нас в том, что данный индивид, либо совершенно неадекватен, либо полагает, что таковым в своей церкви является паства, которой он навяжет любой абсурд.
Но давайте вновь вернемся к обсуждаемой теме. Итак, Э. Челидзе сдвигает акцент на количество крестильного вещества (воды) и уверяет, что ответ святого Киприана сокрушает тех, кто является носителем подобной "материалистической веры".
Но это в очередной раз является выдумкой, поскольку, хотя св. Киприан и говорит, что и находящимся в немощи дается благодать Божья, святым подчеркивается именно то, что верующие могут обрести благодать Божию; и это является толкованием Таинства, исполнимого при исключительных, редких, крайне сложных обстоятельствах, а не обычным нормативным актом Церкви, поскольку св. Киприан отмечает: "… нельзя получить чего-либо меньше там, где с полною верою, и принимающего (крещаемого – Э.Ч.) и подающего (Крещающего – Э.Ч.) приемлется то, что черпается из божественных даров" (Цит. "Церковь – невеста Божия". Стр. 163-164).
О том же свидетельствует нижеследующее рассуждение св. Киприана Карфагенского, когда он утверждает: "В спасительном таинстве греховные язвы не так омываются, как нечистоты кожи и тела в мирской и плотской бане, где для того, чтобы омыть и очистить все тело, нужны бывают селитряный цвет с прочими снадобьями, ванна и водоем. Иначе омывается сердце верующего; иначе очищается ум человека чрез заслугу веры. В спасительных таинствах, в случае крайней необходимости по щедроте Божией, и в сокращении даруется от Господа верующим все" (Цит. "Душа живая". Стр. 290). (См. также: Священномученик Киприан Карфагенский. Письма. Письмо к Магну о крещении Новациан и о получивших крещение в болезни. https://azbyka.ru/otechnik/Kiprian_Karfagenskij/pysma/#0_64).
Ясно, что толкование св. отца: "В спасительном таинстве греховные язвы не так омываются, как нечистоты кожи и тела в мирской и плотской бане, где для того, чтобы омыть и очистить все тело, нужны бывают селитряный цвет с прочими снадобьями, ванна и водоем", никак ответом носителям "материалистической" веры являться не может.
Невозможно представить, чтобы христиане III века, в том числе и епископы, каковым являлся Магнус, не полагали, что Таинство крещения избавляет не от телесных нечистот, а исключительно – от духовных.
Св. отец всего-навсего истолковывает смысл благодати в Таинстве крещения вопрошающим, отмечая, что, если есть человеческая вера и Божия воля, Господь в силах исполнить все, и "… по щедроте Божией и в сокращении даруется от Господа верующим все". Но только в том в случае, если сокращение было вызвано "крайней необходимостью".
В обоих упомянутых переводах духовных академий (киевской и московской) имеется фраза: "В спасительных таинствах, в случае крайней необходимости по щедроте Божией, и в сокращении даруется от Господа верующим все".
На 296-й странице авторского труда "Душа-живая", Э. Челидзе в схолии отмечает, что "…в русском переводе в указанном месте переводчиком добавлено слово "крайний" ("в случае крайней необходимости"), чего нет в оригинале (Сравн. necessitate cogente)".
Латинское слово "necessitate" означает "необходимость" (исходя из необходимости, невольно, ненамеренно; necessitati servire - подчиниться необходимости, неизбежности). Приводим все значения этого слова:
См. выписку из Большого русско-латинского словаря:
necessitas, atis f 1) необходимость (necessitate по необходимости, поневоле; necessitati servire покориться необходимости);
2) неизбежность, неизменность, судьба;
3) необходимость, неизбежное (естественное) следствие (necessitate в силу необходимости);
4) необходимость, нужда;
5) сила обстоятельств, стечение обстоятельств, крайность;
6) pl. нужды, потребности, личные интересы, личные виды (ad necessitatem по мере надобности);
7) государственные, общественные нужды, потребности, необходимые издержки;
8) обязательная сила, тесная связь (родство, дружба) (Большой латинско-русский словарь. Слово necessitas.
Источник: http://linguaeterna.com/vocabula/list.php?letter=N // Или еще: http://www.вокабула.рф/словари/большой-латинско-русский-словарь/necessitas. (Дата обращения к URL: 07.08.2020).
Итак, в тексте св. Киприана имеется указание, что "в случае крайней необходимости", если у человека имеется вера и для спасения души с верой обратится ко Господу, то "по щедроте Божией, и в сокращении даруется от Господа верующим все ". Кроме того, это личное мнение св. отца, а не всеобщее догматическое установление, которое, якобы должно стать нормой Церкви. Св. Киприан ничего подобного не проповедовал и не узаконивал. (11)
---------------
11. Кстати сказать, термин "в случае крайней необходимости", св. Киприаном (судя по русскому переводу) используется в тексте два раза. Во второй раз святой отмечает: "... так и духи злобы, называемые скорпионами и змеями, и однако по данной от Бога власти попираемые нами, не могут долее пребывать в теле человека, в котором, по крещении и освящении его, начинает обитать Дух Святой. Это наконец мы испытываем и на самом деле: те, кои, в случае крайней необходимости, крещены и получили благодать в болезни, освобождаются от нечистого духа..." (там же).
---------------
11. Кстати сказать, термин "в случае крайней необходимости", св. Киприаном (судя по русскому переводу) используется в тексте два раза. Во второй раз святой отмечает: "... так и духи злобы, называемые скорпионами и змеями, и однако по данной от Бога власти попираемые нами, не могут долее пребывать в теле человека, в котором, по крещении и освящении его, начинает обитать Дух Святой. Это наконец мы испытываем и на самом деле: те, кои, в случае крайней необходимости, крещены и получили благодать в болезни, освобождаются от нечистого духа..." (там же).
---------------
Итак, несмотря на то, что, возможно, в латинском оригинале и отсутствует слово "крайней", в любом случае аналогичное значение данного слова содержит выражение necessitas, поскольку означает - совпадение обстоятельств, крайность, крайние обстоятельства. Исходя из этого, нет никаких оснований не доверять переводам двух духовных академий (киевской и московской), в которых латинское слово "necessitas" переводится как "крайняя необходимость" (в русском тексте значится: "в случае крайней необходимости") и доверять Э. Челидзе, который лжет чуть ли ни по привычке.
Тем более, что мы не имеем права доверять псевдоученому, хотя бы после того, как в отношении термина "баптизсма" нам удалось ознакомиться с его интерпретациями, разбавленными откровенной, нечитабельной фальшью, и после того как, обсуждая значение данного слова, так называемый "ученый" не стал прислушиваться к самим носителям языка ( к грекам), едва не обвинив их в незнании греческого языка (через явный подтекст).
И с чего мы должны доверять челидзевскому переводу, в частности, в отношении латинского слова, которое, к тому же, является многозначным и должно быть переведено корректно, как это было сделано русскими учеными? Пренебрежение безупречным переводом в угоду стряпни не раз подловленного на лжи - Челидзе и неосмысленное к нему доверие было бы верхом глупости и безсознательности.
Почему Э. Челидзе идет в разрез с подобной постановкой вопроса? – Потому что иначе его основная идея по объявлению обливательного "крещения" всеобщим правилом церкви, догматом, который по его представлению, формирует св. отец для обличения полной неосновательности лиц, обладающих "материалистической "верой", будет лишена всяких "логических" оснований.
Обряд, в связи с которым св. отец выражает личное мнение ("сколько разумеет мерность наша... сколько нам дано разуметь верою и мыслить, мое мнение таково"), не может являться всеобщим правилом и догматом. К тому же, св. Киприан, чуть ли ни извинительно, отмечает …. ("скромность и смирение наше никого не предупреждает своим мнением...") и, подводит итог словами – "… предоставляя всякому думать как угодно и поступать как думает".
В конце концов, даже если бы в русском переводе слово "крайний" ("… в случае крайней необходимости…") было бы лишним и не соответствовало бы латинскому тексту, перевод, предложенный самим Челидзе ("В случае необходимости") содержит ровно то же самое по смыслу, что и не понравившиеся ему русские академические переводы.
Поскольку… что означает словосочетание "в случае необходимости", если не – редкий, исключительный случай, по поводу чего, собственно, и наступает "случай" сокращения или другого исполнения. Само выражение "в случае необходимости" свидетельствует о том, что тут св. отец подразумевает не всеобщее церковное, установленное и догматически сформированное правило, поскольку в таком случае было бы совершенно излишне - говорить, что оно исполняется "в случае необходимости", а - редкий, чрезвычайный случай, когда, исходя из надобности, требуется другое исполнение.
Вот как данному суждению противится Э. Челидзе: "Первое подчёркивание ("В случае необходимости") весьма обнадёживает перепогруженцев, хотя такая обнадёженность совершенно бесплодна, поскольку в данном тексте стоит множественное число (" In sacramentis salutaribus"; "In the sacraments of salvation"; "В спасительных таинствах"), и поэтому очевидно, что рассуждение пастыря в этом случае касается не только крещения, но и, в частности, спасительных церковных таинств, из числа которых наиважнейшим является – причастие, то есть, евхаристия, и, конечно, же, пастырь, в первую очередь, имеет в виду её.
Следственно, совершенно очевидно, что в данном контексте выражение "в случае необходимости" к спасительному крещению относится настолько, насколько относится и к спасительному причастию, однако, относительно причастия, как мы уже отмечали, исходя именно из случая необходимости, то есть, в частности, для "сокращения" было выбрано паствой, которая и на практике узаконила Литургию Иоанна Златоуста (вместо первоначальной пространной литургии ап. Иакова), аналогом которой в раннем периоде (и конкретно в пору Киприана) являлась известная краткая литургия ап. Петра. Вот что в данном случае преимущественно подчеркивает св. Киприан, используя выражение "Божественные сокращения" ("Душа-живая". Стр. 296).
Э. Челидзе делает замечание и в Схолии, снова порицая определенное место в русском переводе. Мы не будем останавливаться на этом по двум причинам: во-первых, так и так известны - пристрастность и необъективность Э. Челидзе в отношении переводов, которые противоречат его идеям, и во-вторых, в этом случае даннный вопрос для нас не существенен.
Давайте отнесемся к этому, как к особенности перевода, что было не чуждо не только русским переводчикам, но и известным грузинским, среди которых - Евфимий Святогорец, Ефрем Мцире (Малый), Георгий Святогорец. Ефрем Малый перевел "Катехизис" св. Григория Нисского таким образом, что если ознакомиться с оригиналом или хотя бы с русским переводом, то не исключено, что мы и вовсе не узнаем обсуждаемое сочинение, расценив эту работу, как иной, частный труд св. Ефрема. Сравн., например, Е. Кочламазашвили. "Большое огласительное слово" св. Григория Нисского. Старо-грузинский перевод. Христианско-археологические изыскания. 1/2008. стр. 17-18, 48, 65, 69 и др).
Прежде чем продолжить цитацию св. Киприана, предлагаем обсудить "аргумент" Э. Челидзе, относительно сокращения Литургии.
Не ясно, почему выражение "в случае необходимости", на которое "излишне уповают перепогруженцы", слишком "бесплодно"? Что Э. Челидзе имеет в виду? На что мы уповаем, согласно данному выражению, и почему оно с точки зрения Э. Челидзе "бесплодно"?
Как видно, оппонент смекнул, что выражение св. Киприана - "в случае необходимости", представляет из себя правило обливательного крещения, приводимое к исполнению в крайне редких случаях (при необходимости), в связи с чем мы оставляем за собой право сказать, что таковое было сказано св. отцом лишь в отношении чрезвычайного случая, то есть, о "случае необходимости" и не имеет отношения к постоянно действующей норме так же, как и к обычному церковному таинству.
Вот почему Челидзе убеждает, что св. отец использовал множественное число, чем, якобы, указал не только на крещение, но и на все остальные таинства… и что из остальных выбрал наиважнейшее – таинство евхаристии.
Очевидно, что и этой челидзевской уловке не светит мафусаилов век. Начнем с того, что св. Киприан действительно в отношении всех таинств говорит, что "во время необходимости", "в случае чрезвычайной надобности", если человек имеет веру и с ней ради спасения души обратится к Господу, то "по милости Божией, и по сокращению имеется возможность получения благодати".
Однако, св. Киприан, в отношении иных таинств, не указывает, с какими "божественными сокращениями" можно иметь дело. Например, что имеется в виду под "божественным сокращением" таинств - евхаристии, миропомазания, покаяния, рукоположения, венчания и елеосвящения… Является ли это сокращением, утвержденных в них молитв и сокращением священнодействия или же следует рассматривать, как изменчивость самой сути таинства?
Давайте обсудим кратко.
***
Что такое таинство? Что в нем является самым важным? Что дозволено менять в таинстве, а что нет? (или, что со временем подвергалось в нём изменениям, а что нет?).
В руководстве Нестора Кубанеишвили, по изучению катехизиса православной церкви, переизданного официальной "православной" церковью в 1990 г., говорится: "Таинство - священнодействие, установленное самим Исусом Христом, через которое верующим сообщается благодать и сила Божия".
Итак, в Таинстве различают: 1) божественное установление; 2) видимое действие; 3) невидимое действие Божьей благодати.
Господь - единственный источник и даритель благодати, поэтому никто кроме Бога не в силах устанавливать таинства, в которых человеку сообщается благодать" (стр. 62).
В каком случае таинство действительно? – ответ содержится в упомянутом "Катехизисе": "По учению православной церкви, таинство является действительным и благодать Бога вне всякого сомнения сообщается человеку, когда оно исполняется добросовестно, правильно. Под добросовестным и правильным исполнением имеется в виду выполнение каждого требования относительно исполнителя и исполнения.
Исполнителями таинств могут выступать лишь законно избранные (канонически рукоположенные) архиереи и священники.
Во время исполнения таинства должно быть соблюдено, исполнено то, что в нём неизменно и является дарованной Богом принадлежностью.
При совершении каждого таинства необходимо использовать вещество, каковое было оглашено Самим установителем таинства (напр., вода для совершения крещения, миро – для миропомазания, хлеб для евхаристии, вино и др.) а также определенные видимые признаки (напр., во время крещения - троекратное погружение в воду и др.).
Для истинности таинства необходимо также и "приглашение Святого Духа и произношение установленной формы слов, чем священнослужитель очищает таинство силой Святого Духа". Приглашение Святого Духа и произнесение установленной формы слов во время исполнения таинства, придает внешнему действию – таинственно-благодатное значение" (там же. Стр. 63).
Итак, весьма просто и понятно объяснено, что является неизменным в таинстве, которое было установленно самим Господом и дошло до нас от апостол и их преемников без искажений. Это является принадлежностью, дарованной нам Богом.
Слово "принадлежность", в отношении данного нам Богом таинства, по словам авторов-издателей упомянутого катехизиса подразумевает - форму исполнения таинства, вещество и формула произношения, благодаря которым священнослужитель для совершения таинства приглашает Святой Дух, Который и придает ему "таинственно-благодатное значение".
Давайте теперь рассмотрим, что говорит тот же катехизис о таинстве крещения: "Крещение является таинством, при котором через троекратное погружение человека в воду с призыванием – Отца и Сына и Святого Духа, верующий очищается от грехов и занового рождается к новой духовной жизни" (Руководство по изучению катехизиса православной церкви. Тбилиси. 1990 г., стр. 63).
Там же сказано, что таинство крещения состоит из видимой и невидимой сторон: "К видимой стороне крещения относится: 1) вещество для таинства – вода; 2) троекратное погружение в воду и 3. Слова: "Крещается раб Божий во имя Отца, аминь, и Сына, аминь, и Святого Духа, аминь".
В то время, как - невидимое действие таинства крещения - "Оправдывает и очищает верующего, как от первородного греха, так и от личных грехов, совершенных им до крещения" (там же. Стр. 63-65).
Тут же следует отметить, что переиздатели данного катехизиса в схолии добавили примечание, в котором говорится: "Если возникнет необходимость, например, если ребенок тяжело болен, данное таинство могут исполнить миряне – мужчина или женщина; мирянин должен лишь погрузить ребенка в воду или окропить водой и произнести: "Крещается раб Божий (Имя) во Имя Отца… и др." (Там же. Стр. 64).
Помимо того, что господствующая церковь новообрядцев подобным толкованием (отнесением окропления ко крещению) абсолютно противоречит законоположению святых отцов, она также противоречит и самой себе, поскольку упомянутый катехизис допускает окропление лишь в исключительных, безвыходных случаях (скажем, при наличии тяжелой болезни). Но несмотря на это, священнослужители господствующей церкви используют данное правило для "крещения" абсолютно здоровых людей, окропляя (или же обливая) их повсеместно.
Пастырь-новообрядец - "архимандрит" Рафаил пишет: "Несмотря на то, что церковные каноны и впрямь предписывают погружательную форму крещения, все же, вразрез с утверждениями старообрядцев, все-таки допускалось применять и окропительный образ, хотя, надо сказать, допущение это выглядело в виде исключений, например, в случае смертельной опасности, болезни, отсутствия достаточного количества воды" (архимандрит Рафаил. "Беседы о православии", Тбилиси, 1994 г. Стр.107).
Остается "загадкой", какая "смертельная опасность" нависла над господствующей церковью в стране, изобилующей водными ресурсами повсеместно, чем "больна" безысходно, чтобы массово "крестить" людей, прибегая к правилу окропления, используемому в крайне редких, чрезвычайных положениях? Данную загадку весьма находчиво отгадал пастырь упомянутой церкви - Арчил Миндиашвили. Повсеместное установление в грузинской церкви правила исключения он приписал лености сященнослужителей (см. А. Миндиашвили. "Праздник Православия", Тбилиси, 1994 г. Стр. 74).
Мы же, с нашей стороны, хотим отметить, что помимо лености, данное беззаконие имеет под собой и корыстные основания, однако, поговорим об этом в другой раз. В то время, как Э. Челидзе, и вовсе не считает окропительное крещение формой, используемой исключительно в крайне редких случаях, поскольку полагает абсолютно равноценной погружению и предлагает рассматривать в контексте полноценной канонической нормы. Ниже по тексту, по словам Челидзе, таковую "норму" следует соблюдать равнозначно погружательной форме.
Итак, официальная церковь, идя в разрез со своим катехизисом, так исказила учение о таинстве крещения, что исключением стала уже сама каноническая форма крещения: троекратное погружение в воду. Окропление же, напротив, объявлено установившимся правилом (более того, современные греки узаконили т. н. "аэробаптизму" - крещение в воздухе"). Панайотис И. Бумис, профессор афонского университета, в труде "Каноническое право" (который был издан и на грузинском языке, под редакторством проф. Еквтиме Кочламазашвили и протоирея Иоанна Мамниашвили), в случае чрезвычайного положения "… если возникает опасность смерти младенца", считает допустимым применение т. н. крещения воздухом, и "…младенец трижды возносится на руках к небу во Имя Пресвятой Троицы" (Панайотис И. Бумис. "Каноническое право", Тбилиси 2007 г., стр. 80).
***
Но давайте вернемся вновь к нашей теме и к высказыванию св. Киприана Карфагенского. Словом, главнейшим признаком любого церковного таинства, в виде данной Богом неизменной принадлежности, является необходимое для его совершения вещество, форма (видимая сторона) и формула. В случае их сокращения или упразднения, таинство теряет силу и становится искаженным. "Таинство - священнодействие, установленное самим Исусом Христом, - значится в упомянутом "Катехизисе", - через которое верующим сообщается благодать и сила Божия".
Но что имел в виду св. Киприан, говоря: "В спасительных таинствах, в случае крайней необходимости по щедроте Божией, и в сокращении даруется от Господа верующим все"?
Согласно отмеченному выше, св. Киприан не поясняет, что он имеет в виду, говоря о "сокращении" (в дословном переводе Э. Челидзе: "В Божьем сокращении"); не указывает, как следует сокращать, например, Таинство причащения, елеопомазание, хиротонию и т.д., но говорит, что в случае чрезвычайной необходимости, данные таинства допускается сокращать. Поскольку св. Киприан не разъясняет, что он конкретно имеет в виду, говоря о "божественном сокращении" и не поясняет - какой стороны таинства касается таковое сокращение, Э. Челидзе решил сам истолковать читателю данный вопрос и для примера обратился к теме "сокращения" Таинства евхаристии.
По мнению Э. Челидзе, "… рассуждение пастыря в данном случае касается не только крещения, но, в частности, спасительных церковных таинств, среди которых наиболее значимым является евхаристия, так что в первую очередь пастырь подразумевает его. Соответственно, вполне очевидно, что в данном контексте выражение "в случае необходимости" к спасительному крещению относится настолько, насколько относится и к спасительному причастию, однако, относительно причастия, как мы уже отмечали, исходя именно из случая необходимости, то есть, в частности, для "сокращения" было выбрано паствой, которая и на практике узаконила Литургию Иоанна Златоуста (вместо первоначальной пространной литургии ап. Иакова), аналогом которой в раннем периоде (и конкретно в пору Киприана) являлась известная краткая литургия ап. Петра. Вот что в данном случае преимущественно подчеркивает св. Киприан, используя выражение "Божественные сокращения" ("Душа-живая". Тб. 2012. Стр. 296).
Вопрос "сокращения" форм будет рассматриваться и ниже, а сейчас отметим вкратце, что существует большая разница между разными формами совершения крещения и сокращением литургии Якова, поскольку св. Иоанн Златоуст никоим образом в Таинстве евхаристии не подвергал изменениям (так же, никто никогда не подвергал изменениям) "Богом данную принадлежность". Давайте вспомним, что говорил Н. Кубанеишвили (и вслед ему – господствующая "православная" церковь) о надлежащем исполнении церковных таинств: "По учению православной церкви, таинство является действительным и благодать Бога вне всякого сомнения сообщается человеку, когда оно исполняется добросовестно, правильно. Под добросовестным и правильным исполнением имеется в виду выполнение каждого требования относительно исполнителя и исполнения. ...
Во время исполнения таинства необходимо соблюдать и исполнять то, что в данном таинстве является неизменной, данной Богом принадлежностью".
При совершении каждого таинства необходимо использовать вещество, каковое было оглашено Самим установителем таинства (напр., вода для совершения крещения, миро – для миропомазания, хлеб для евхаристии, вино и др.) а также определенные видимые признаки (напр., во время крещения - троекратное погружение в воду и др.).
Итак, если по мнению св. Киприана Карфагенского в Таинстве крещения, в котором данной Богом принадлежностью является "троекратное погружение в воду" и формула: крещается раб Божий во Имя Отца и Сына и Святого Духа, аминь", то, соответственно, "Божественное сокращение" подразумевает замену именно этой "принадлежности, данной от Бога" (то есть погружения) обливанием (недвусмысленно удостоверимся ниже, что именно таковым и является убеждение св. Киприана);
И если, согласно тому, как отмечает Челидзе, фраза, сказанная во множественном числе св. Киприаном - "В спасительных таинствах", таковых "божественных сокращений" не подразумевает лишь в отношении Таинства крещения, но касается так же и евхаристии, то тогда сокращение продолжительности литургии по Челидзе, никак не отвечает им же поставленной задаче. Поскольку не продолжительность литургии в евхаристии (добавление или сокращение той или иной молитвы) способно менять её форму, но само вещество (хлеб и вино) и форма исполнения таинства.
То есть, если мы начнем говорить о "сокращении" в Таинстве евхаристии, подобно "сокращению" в Таинстве крещения, то получается, что св. отец в "случае чрезвычайной необходимости", вместо хлеба и вина, для пресуществления в тело и кровь Христову допускал использовать другие вещества. Однако насколько подобное поведение приемлемо, оставим на суд читателю, понимающему суть литургии.
Разумеется, Э. Челидзе сторонится таковых осложнений и сознательно переводит акцент на вопрос сокращения продолжительности литургии (а не на "Богом данную принадлежность" к исполнению таинства – вино и хлеб, которые на литургии пременяются в кровь и в тело Исуса Христа). Ведь по словам Челидзе: "… в частности, "для сокращения" и выбрала паства и узаконила на практике литургию Иоанна Златоуста (взамен на первоначальную полную литургию Иакова)" (Там же. Стр. 296).
Совершенно ошибочным и неприемлемым является утверждение Челидзе, что будто бы паства выбрала и узаконила на практике литургию Иоанна Златоуста для "сокращения" … Э. Челидзе не видит разницы между церквями – древней - времен Златоуста, и своей, – современной и своевольной.
Исходя из слов Э. Челидзе, получается, что древняя церковь выглядит ленной, поскольку литургию Златоуста выбрала для "краткости" … и это еще ничего. Тогдашняя паства, выходит, пользовалась и правом узаконять. Так, выбранная ею литургия была "узаконена на практике" (интересно, какими принципами руководствовались во время "выбора" и "узаконения" литургий – выносилось ли на собрании постановление в зависимости от выбора паствы или же это происходило стихийно? Если же имел место собор, то какой это собор или что это за собор, состоящий из одной только паствы?).
В отношении литургии св. Иоанна Златоуста, необходимо сказать следующее: св. Василий Великий в 91-м правиле пишет: "Слова призывания при преложении хлеба евхаристии и чаши благословения, кто из святых оставил нам письменно? Ибо мы не довольствуемся теми словами, о коих упомянул апостол или евангелие, но и прежде и после оных произносим и другия, как имеющия великую силу в таинстве, приняв их от неписаннаго учения" ("Кормчая". Святаго Василия из 27 главы книги о Святом Духе, к блаженному Амфилохию (Прав. 91)).
В соответствии с вышесказанным толкуют данное правило - Зонара, Вальсамон и Аристен. На их толкования ссылаться касаемо сокращений не будем, но то, что епископы первых веков – действительно, - собственные молитвы и некоторые новшества вносили в литургию, видно из следующих свидетельств:
В книге "О римской литургии" пишется: "Нужно заметить, что и в древности церкви частныя... разнились между собою некоторыми обрядами, песнопениями и молитвами", (стр. 80-81). "В первые христианские века, — пишется в другой книге, — епископы, служа литургию, произносили свои собственные молитвы над предложенными дарами, как кто умел, сохраняя, впрочем, одинаковый состав и порядок священнодействия, указанный апостолами" ("Вероучение, богослужение, чиноположение и правила церковного благочиния египетских христиан (коптов)", стр. 118) (Вероучение, богослужение, чиноположение и правила церковного благочиния египетских христиан (коптов), стр. 118) (цит. Д. С. Варакин. Рассмотрение примеров приводимых в защиту реформ бывшего патриарха Никона. http://starajavera.narod.ru/varakin.html).
16. "Когда греки, — пишется в третьей книге, — до изобретения книгопечатания, довольствовались рукописными литургиями, тогда, по вольности ли своей, или по другим причинам, не убоялись вносить в сей чин и в самую литургию новые слова и новые действия и даже исполнять их на самом деле. Особенно на западе и в других областях, подчиненных власти западной римской церкви, прибавлены к литургии... необычайные нововведения" ("Новая скрижаль", гл. 6, § 2, стр. 150).
Возможно, это последнее свидетельство относится к эпохе даже более поздней, чем Василия Великого и Иоанна Златоуста, но все же ясно выказывает состояние древней литургии, чье приведение в надлежащий порядок, нельзя полагать недопустимым, грешным преобразованием или упразднением апостольской литургии.
К вышеприведенным трём свидетельствам нелишне прибавить еще одну историческую справку, согласно которой: "В IV веке, когда гонения на христиан прекратились и церковь могла свободно заняться благоустройством своего богослужения, оказалось, что в совершении литургии происходило разнообразие не только между отдельными церквами местными, но в одной и той же церкви; это разнообразие касалось главным образом молитв, которые, имея одно и то же содержание, различались по изложению. Признано было необходимым дать литургии однообразный вид и порядок. С этой целью св. Василий подверг пересмотру и сокращению общеупотребительную дотоле древнюю литургию, носившую имя апостола Иакова" ("Три литургии". Заметка в Современном календаре 1898 г., изд. Ступина, месяц сентябрь) (Три литургии. Заметка в Современном календаре 1898 г., изд. Ступина, месяц сентябрь).
Приведенные свидетельства подтверждают, что св. Василий Великий не упразднил, а лишь привел в строгий порядок литургию апостола, которая во многих церквях была разнообразной, в некоторых случаях содержала неточности и даже неприемлемые добавления.
Вслед за этим "Этот святой отец (Златоуст) взял те же обряды из прежде составленной литургии св. Василия Великого, но только сократил молитвы" (гл. 7, § 1, стр. 190). Так же пишется и в вышеприведенной мною заметке "Три литургии": "После св. Василия в этом деле трудился св. Иоанн Златоустый, сокративший литургию еще больше. Такое сокращение, впрочем, было достигнуто точным изложением молитв и введением обычая читать некоторые молитвы тайно. Существенное же содержание литургии осталось неизменным" (Современный календарь 1898г., изд. Ступина) (Современный календарь 1898г., изд. Ступина) (Там же).
"Он (Златоуст), — пишет профессор Покровский, — оставил в неприкосновенной целости апостольскую основу литургии, сохранил и общий строй ея, составляющий достояние всех церквей Востока и Запада, но ввел в нее новые молитвы, им составленные, отчасти же только им редактированные" ("Отдых христианина", февраль 1908 г., стр. 13) (Отдых христианина, февраль 1908 г., стр. 13).
Исходя из первых и последних свидетельств становится ясно, что святые – Василий Великий и Иоанн Златоуст не искажали апостольскую литургию, не изменяли, но привели в надлежащий порядок. Различия, каковые наличествуют на сегодняшний день между литургией св. Василия Великого и Иоанна Златоуста, имели место и в древние времена и грехом не считались, поскольку выражали величие христианской души того или иного епископа и не подпадали под какой-либо запрет апостолов.
Чтобы показать, что между древними литургиями существовало несущественное внешнее различие, полезно было бы ознакомить читателя с выдержкой из книги "Собрание древних литургий", составленной редакцией издательства Санкт-петербургской Духовной Академии.
"Установленная Исусом Христом и преданная Церкви святыми Его учениками и апостолами божественная литургия — в сущности одна во всех древних православных церквах Востока и Запада и даже и в древних неправославных церквах восточных, каковы церкви несторианская и монофизитская...
Далее, литургия во всех древних церквах одна не по единству главных только основных своих частей, но и по единству основной темы, проходящей чрез важнейшую ея часть — молитву возношения святых даров, равно как по единству и неизменности важнейших евхаристических изречений или возгласов, соединяющих отдельные части этой молитвы.
В этом смысле древние христианские церкви, православные и неправославные, с полным правом могут сказать, что оне имеют апостольскую литургию и соблюдают ее, в сущности, неизменно со времен апостольских. Но, будучи рассматриваема со стороны подробностей и частностей, со стороны несущественной внешности, литургия различных древних церквей христианского мира далеко не одинакова.
Внешний вид литургии в различных странах христианского мира и в различные времена был весьма разнообразен...
И это потому, что от апостолов литургия дошла до нас не в писмени, не в каком-либо списке, который бы святые апостолы оставили нам и повелели сохранять неизменно во всех его частностях и букве, а в устном предании, по которому они заповедали церкви сохранять неизменно только заповеданное ими существенное в литургии; определение же несущественного, как-то: количества и порядка чтений св. Писания, количества и самого текста песнопений, молитв, разного рода обрядовых действий и тому подобного, предоставили усмотрению своих учеников...
О преемстве литургии от апостолов не в писмени, а по устному преданию, прямо и совершенно ясно и решительно говорит св. Василий Великий (О Святом Духе, гл. 27).
Если дошли до нас литургии, известные под именем апостолов Иакова и Марка, и если существуют древние свидетельства об этих апостолах, как устроителях литургий, то это указывает не на существование каких-либо списков литургий, ими преданных церкви, а на преемство от этих именно апостолов литургий по преданию важнейшими из церквей — иерусалимскою и александрийскою, в которых эти апостолы были епископами.
Участие Иакова и Марка в определении и устроении общего, существенного, основного в литургии, и влияние чрез предание их литургий на литургии других христианских церквей несомненны. Доказательством служит сходство и согласие всех древних литургий в главном и существенном, — сходство и согласие, необъяснимые никакою разумною причиною при устранении объясняющего это явление апостольского предания; потому что объяснение случайностью сходства не будет объяснением, а отказом от объяснения.
Таким образом, предание о литургиях апостолов Иакова и Марка, при известном и, по нашему мнению, единственно верном его понимании, не находится в противоречии со словами Василия Великого об отсутствии списка апостольской литургии и с другими историческими фактами, о которых было упомянуто выше, а удобно с ними примиряется" (стр. 4 и 5).
То же самое мы видим и у современных ученых исследователей вопроса о литургии; так пишет об этом профессор Покровский: "Заповедь Христа Спасителя, данная апостолам: "Сие творите в Мое воспоминание", послужила исходным пунктом апостольской литургии. Целый ряд указаний на литургию во времена апостолов мы находим в деяниях и посланиях апостольских; о литургии эпохи мужей апостольских — у Игнатия Богоносца, о последующем времени (II-III вв.) — у отцов Церкви и церковных писателей: Иустина Философа, Иринея Лионского, Климента Александрийского, Тертуллиана, Оригена, Корнелия, епископа римского, Фирмилиана, епископа Кесарии Кападокийской, в учении двенадцати апостолов, правилах и постановлениях апостольских, Григория Неокесарийского, Плиния Младшего и др.
Это не значит, что все то, что в них есть в настоящее время, полностью ведет свою историю от апостолов; и несомненно, что большая часть их содержания явилась гораздо позднее апостольского века; но в них есть одна общая основа, которая заставляет предполагать во всех них литургическое единство эпохи древнейшей. В подробностях эти литургии разошлись между собою очень далеко, и начало такого разделения неизбежно должно восходить к первым векам христианства.
Пусть сведения эти весьма кратки и недостаточны, все же они заставляют необходимо признать, что уже в первоначальной христианской древности существовал известный порядок, строй литургии, образованный сперва по типу Тайной Вечери и собраний апостолов "самовидцев". Иустин-мученик кратко сообщает нам уже драгоценные сведения и о самом строе литургии: о хлебе и чаше воды и вина, о возсылании именем Сына и Святаго Духа хвалы и славы Отцу, о благодарении, о причащении верующих тела и крови Христовой.
Очевидно, апостольское зерно литургии получило уже во II веке некоторый рост. То же самое косвенно подтверждают и дошедшие до нас предания о составлении литургий апостолами Иаковом, евангелистом Марком, апостолами Петром, Фаддеем и Марием. Литургии этих апостолов дошли до нас и в письменном изложении (очевидно, что имеется в виду поздняя запись устных апостольских преданий – архиеп. П.).
Это не значит, что все то, что в них есть в настоящее время, полностью ведет свою историю от апостолов; и несомненно, что большая часть их содержания явилась гораздо позднее апостольского века; но в них есть одна общая основа, которая заставляет предполагать во всех них литургическое единство эпохи древнейшей. В подробностях эти литургии разошлись между собою очень далеко, и начало такого разделения неизбежно должно восходить к первым векам христианства.
В эпоху апостолов, поддерживавших постоянное взаимное общение, крупных литургических различий быть не могло: они касались разве только формулировки евхаристических молитв, бывших свободною импровизациею. Но с распространением христианства и происходящим отсюда умножением епископства и пресвитерства, весьма различного в своем составе, с появлением ересей и расколов, пользовавшихся всеми, даже литургическими, средствами к пропаганде своих учений, мало-помалу стала сознаваться потребность точной формулировки главнейших литургических молитв и установки определенного литургического строя.
Наступил IV век, положение христианской церкви сильно изменилось: из гонимой и преследуемой она стала покровительствуемою, а затем и господствующею; насла пора широкой организации церковного быта, наступила пора свободного устроения церковных дел; эпоха вселенских соборов, как одного из сильных средств к установлению ортодоксии и церковного единства.
Константинополь стал столицею империи; маленькая Византия быстро изменила свой внешний облик: появились в ней виллы, дворцы, великолепные христианские храмы; христианское население Константинополя сильно возросло; настала пора подумать и об устроении дел литургийных. огромный шаг, сделанный в этом направлении Василием Великим, другом Иоанна златоуста, имел свою громадную важность: он представил нам первую, широко задуманную и прекрасно выполненную попытку систематизации литургийного материала в одном стройном целом систематизации, такую попытку, которая объединяла поместные запросы, восполняла все недочеты и заключала в себе, благодаря таланту великого святителя, универсальную полноту" (журнал "Отдых христианина", февраль 1908 г., стр. 6-9).
Отсюда следует один верный вывод, что апостольская литургия Василием Великим НЕ ОТМЕНЕНА, а лишь ПРИВЕДЕНА В ОДИН ОПРЕДЕЛЕННЫЙ ВИД, по причинам, ясно и отчетливо указанным в двух последних приведенных мною доказательствах. Точно так же и св. Иоанн Златоуст, как видно выше, не отменял литургии св. Василия Великого, а лишь некоторые молитвы изложил в сокращенном виде" (Д. С. Варакин. Рассмотрение примеров приводимых в защиту реформ бывшего патриарха Никона - https://starajavera.narod.ru/varakin.html).
Итак, "Эти два вселенских проповедника употребили всю силу для того, чтобы сохранить апостольскую литургию в целости и неприкосновенности, очистив ее от различных примесей и наслоений, чинимых епископами древней церкви по своему личному, иногда, может быть, погрешительному, усмотрению; они сделали по отношению к литургии только то, что святые апостолы не ограничили каким-либо своим постановлением" (Д. С. Варакин. Там же).
Так что, попытка Челидзе представить Литургию Иоанна Златоуста, как "божественное сокращение" евхаристии (важнейшего таинства церкви), является такой же авантюристической и фальшивой, как и многое другое.
Также, наконец, необходимо отметить, что в толковании Э. Челидзе выявляется и нелогичность. Судите сами: если изменение-сокращение формы литургии подразумевает сокращение ее молитв, что сокращает продолжительность литургии и это никак не касается хлеба и вина, то есть Божьей принадлежности, дарованной в совершение данного таинства, тогда и сокращение Таинства крещения должно подразумевать удаление некоторых молитв и сокращение продолжительности крещения, но никак не изменчивость Божьей принадлежности, каковой является погружение в воду, данное в совершение Таинства крещения.
Но если по мнению Э. Челидзе, "сокращение" таинства подразумевает сокращение её основной формы, то есть, данной Богом принадлежности, то и в евхаристии это должно касаться именно хлеба и вина, а не продолжительности самой литургии. А таковое в действительности было бы нарушением литургии так же, как и нарушением крещения является использование окропительной формы.
Между прочим, в Древлеправославии существует практика сокращенного крещения. Таковая используется при необходимости безотлагательного крещения, поскольку времени на полное чинопоследование Таинства не остаётся.
При этом, данное сокращение никак не касается самой формы исполнения крещения – троекратного погружения в воду. В таком случае, после начальных молитв, священник (или мирянин, если положение безвыходное и нет священнослужителя поблизости) ниспускает крещаемого в воду и троекратно погружает во Имя Отца и Сына и Святого Духа.
По изведению из воды, читаются: 31-й Псалом и заключительные молитвы. Затем, если крещенный окажется в силах прийти в Церковь, в отношении него будет полностью совершено чинопоследование (исключение составит лишь погружение в воду, поскольку данное действие было совершено ранее) крещения, включая миропомазание и причащение.
Поскольку мы разбираем вопрос изменчивости форм церковных таинств, до возвращения к высказыванию св. Киприана, считаем уместным включить в текст очередное суждение Э. Челидзе в отношении "форменной изменчивости".
Взгляд Э. Челидзе об изменчивости ритуальной стороны церковных таинств служит оправданию обливательно-окропительного "крещения".
На страницах (142-148 стр.) своей первой "антистароверческой" книги – "Церковь – невеста Божья", Э. Челидзе утверждает, что со временем, церковные таинства претерпевали изменения. В пример подтверждения изменчивости приводит "слегка сокращенную" Иоанном Златоустом литургию и высказывания св. Максима Исповедника в отношении различных таинств, в том числе, касательно ритуальной стороны литургии и крещения (см. Там же. Стр. 143-144). Более того, Челидзе твердо подчеркивает обстоятельство, согласно которому, по словам св. отца, данные изменения вызваны "велением времени, с учетом эпохи" (Там же. Стр. 144).
Мы не будем останавливаться на данном суждении Челидзе, поскольку оно было озвучено в противовес взглядам древлеправославных полемистов, по утверждению которых апостольские предания и обычаи не менялись и без каких-либо искажений переходили от одного поколения христиан к другому - веками.
Но адепты официальной "православной" церкви, полемизируя с нами о таинстве крещения, постоянно ссылаются на данное суждение Челидзе, что служит им оправданием для замещения погружательного правила на обливательно-окропительную форму. Подспудно, возможно, и сам Челидзе подразумевает то же.
У читателя создается впечатление, что по "приказу" времени допускается-таки подвергать изменениям церковные таинства, что возможно их ритуальное видоизменение. Но что из себя представляют изменения и какие моменты таинства замещают? Насколько оправдано менять внешнюю сторону таинства, исходя из "потребностей времени" и сколь справедлива обоснованность таких изменений, исходя из толкований св. Максима Исповедника?
Для того, чтобы рассмотреть вопрос, необходимо уточнить - о каком, собственно, моменте в отношении церковных таинств ведется речь, следует выяснить суть самого таинства и вопрос – что в нем подвергается изменчивости, что является неизменным.
1. "Вслед за миропомазанием, ведет (священник – Э. Ч.) его (крещаемого – Э. Ч.) на причастие. Это было оправдано в связи с приспособлением к обстоятельствам времени, ныне же, более благовейно, совершается при полной литургии божественных таинств (причащение – Э. Ч.)" (там же. Стр. 145).
Наш ответ: Описанное св. Максимом изменение относится не к таинству крещения, а к вопросу - как следует причащать новокрещенного. Ну а мы говорим о самом главном моменте таинства, а не о разных ритуалах, наличествующих в них в целом (они в изобилии во всех семи церковных таинствах). Что именно имеем в виду, детально рассматриваем ниже. Здесь же, в продолжение вопроса необходимо отметить, что пример, приводимый Э. Челидзе никак не оправдывает замещение погружательного крещения обливательным правилом и изменчивость главнейшего момента таинства.
Речь оппонентом ведется об ином моменте, в то время как мы обращаем внимание на кардинально значимые вещи. Как видно, Э. Челидзе запутывает вопрос и здесь, лжет, уверяя, что изменчивость церковного таинства является допустимой; не разъясняет её главнейшей сути, не говорит, что является наиглавнейшим во всех таинствах церкви.
К слову, в таинстве крещения, причащение новокрещенного христианина, как и в древности, совершается ныне по погружению крещаемого в воду, без литургии, запасными дарами, употребляемыми при приобщении больных и новокрещенных и обычно уготовляемыми в Великий Четверток.
2. "Кое-где в отношении Потиры св. Максим выказывает следующее ритуальное различие: "Знай, что покрытым поставлялся не только святой хлеб но и божественное питие, чего не происходит ныне" (там же. Стр. 145).
Наш ответ: таковой момент также нельзя считать значимым изменением церковного таинства (конкретно - таинства евхаристии). Почему – мы ясно обозначили выше, однако, разобраться детально предлагаем ниже.
3. " На этот раз предоставим вниманию весьма знаменательный комментарий, приложенный на упомянутый труд св. Дионисия, который выявляет ритуальную изменчивость, конкретно, литургии… комментарий выглядит следующим образом: "Знай, что данное правило литургии в ту пору (во времена св. Дионисия Ареопагитского – Э. Ч.) было сохранено указанным образом, или, в тех местах так было установлено, поскольку отличия в правилах поместных церквей – обычное дело… эта ссылка, - пишет Э. Челидзе, - несомненно подтверждает, что некоторая форменная изменчивость церковных таинств и различия проявлялись не только в отдаленных друг от друга веках, но и в разных церквях одного и того же времени, эпохи, века" (Там же. Стр. 146).
Наш ответ: во-первых, тут речь лишь только о литургии, а не о важнейшей, Богом данной ей принадлежности, без чего таинство нельзя называть таковым; о несущественных изменениях, возникавших, время от времени, по целому ряду причин. Чтобы ясно понимать другие схожие вопросы, данная тема в качестве примера обсуждается ниже.
Изменения, которые коснулись ритуалов и чинов церковных таинств, никак не оправдывают в таинстве крещения замещение погружения обливанием. Если таковые изменения и имели место, то они касались лишь неосновной, несущественной стороны таинства. При том, что существенным и наиглавнейшим в таинстве является лишь Богом данная принадлежность.
Нами было отмечено, что из себя представляет таинство, что можно менять в ней, а чего нельзя (или – что подвергалось изменениям с течением времени, что нет). Повторимся лишь вкратце: в таинстве три основных момента; 1) божественное установление; 2) видимое действие; 3) невидимое действие Божьей благодати.
1) Божественное установление означает, что Бог является единственным Источником и дарителем благодати, посему "никто иной кроме Бога не в состоянии устанавливать таинства, в которых человеку сообщается благодать" (Руководство по изучению православного катехизиса, Тб. 1990 г. Стр. 62).
2) Видимое действие. Упомянутый "катехизис" учит истинно, что "по учению православной церкви, таинство является действительным и Божья благодать даруется человеку вне сомнений, при условии его правильного и добропорядочного исполнения. Правильным и добропорядочным исполнением называется соблюдение всех требований во время совершения таинства со стороны совершающего и в отношении самого исполнения.
Совершать таинство имеет право лишь законно избранный и законно рукоположенный архиерей и священник.
Во время исполнения таинства должно быть соблюдено и совершено всё то, что в данном таинстве является неизменной, данной Богом принадлежностью.
При совершении того или иного таинства, следует использовать конкретное вещество, утвержденное Самим установителем таинств (например, вода – для крещения, миро - для миропомазания, для причащения – хлеб и вино, и др.) и определенный видимый признак (например, в таинстве крещения - троекратное погружение в воду и др.).
3) Невидимое действие Божьей благодати. Для истинности таинства необходимо также и "приглашение Святого Духа и произношение установленной формы слов, чем священнослужитель очищает таинство силой Святого Духа". Приглашение Святого Духа и произнесение установленной формы слов во время исполнения таинства, придает внешнему действию – таинственно-благодатное значение" (там же. Стр. 63).
Итак, в Таинстве неизменно все, что установленно Господом и дошло до нас от апостол и их преемников без искажений. Это является дарованной Богом принадлежностью. Слово "принадлежность", в отношении данного Богом таинства, по словам авторов-издателей упомянутого катехизиса подразумевает - форму исполнения таинства, вещество и формулу произношения, благодаря которым священнослужитель для совершения таинства приглашает Святой Дух, Который и придает ему "таинственно-благодатное значение".
В этом Катехизисе, как мы убедились выше и толковали, ясно говорится, что в Таинстве Крещения, установителем которого является Сам Господь Исус Христос, Божьей принадлежностью, менять которую недопустимо, является вещество (в крещении – вода), внешнее священнодействие, то есть, форма (в крещении – троекратное погружение в воду) и формула для произношения (в крещении – при каждом погружении – призывание Имени каждой ипостаси Пресвятой Троицы. Формула крещения читается: "Крещается раб Божий (имя крещаемого) во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа. Аминь").
Итак, когда речь идет о форменной изменчивости церковного Таинства, надо иметь в виду, что в данном Таинстве не должна изменяться Богом данная принадлежность, те неизменные признаки Таинства, без которых Таинство считаться таковым не будет.
Примеры, приводимые Э. Челидзе выше - относительно изменчивости Таинства и, тем более, – замены крестильного погружения на обливание, оправдательными аргументами являться не могут, потому как данные изменения не касаются главнейшей, то есть, "данной Богом неизменчивой принадлежности" - вещества, формы совершения Таинства и формулы произношения.
Мы уже детально обсудили литургию, "сокращенную" св. Иоанном Златоустом и убедились, насколько тщетно пытается Челидзе повернуть обсуждаемый вопрос для собственной пользы.
Но для пущего прояснения нашей позиции и подтверждения того, что изменчивость некоторых несущественных обычаев не оправдывает изменчивость формы церковных таинств, приведем пример с той же литургической практики, на которую часто ссылаются оппоненты.
В частности, сторонники изменчивости формы во свидетельство своих убеждений приводят в пример традицию причащения лжицеи заявляют, что раньше каждому христианину причастие давалось в руки, а ныне это сменилось на причащение со лжицы (а в руки св. Тело для причащения дается лишь духовным лицам в Алтаре).
Однако, некоторые оппоненты не осведомлены, что полагать причащение со лжицы новшеством, как и замещение такового на совершение таинства через руки – нельзя, поскольку причащение со лжицы берет свои корни с древних времен.
"Причащение со лжицы даже нельзя назвать не апостольским преданием, потому что все верующие христиане со времени самого учреждения божественной литургии считали неизменною своею обязанностью причащаться святых тайн; несомненно в числе их должны были быть и младенцы, которые не могли своими руками принимать в уста святое тело и, кроме того, также несомненно, были и такие болящие, которые тоже не могли по тяжести своей болезни правильно управлять своими руками. И если святые апостолы нигде не сказали того, чтобы младенцев и болящих лишать святого причастия, то ясно, что и они по необходимости должны были употреблять лжицу для причащения их" (Д. С. Варакин. См. выше упом. Тр.).
Св. Ефрем Сирин (IV в.) пишет: "Безплотный серафим углем горящим освяти Исаию. Угль же не едино естество имать в себе, но два: древо бо есть и огнь. Такожде и хлеб сей святый не едино естество имать хлебное, но и божественное. … Да убо приступающии христолюбцы, не яко от человека приемлем страшное оно причащение, или от священника, но яко от самого онаго серафима, со огненныя тоя лжицы, юже виде Исаия" (Слово 107, лист 317). Исаия же видел серафима не со лжицею, но с клещами. И если преподобный Ефрем Сирин заменил их лжицею, то ясно, что причащаться был тоща в церкви обычай не только из рук, но и со лжицы" (Д. С. Варакин. Там же. О лжице).
Так что, с древних времен причащались, как из рук, так со лжицы, но позднее некоторые не богобоязненные люди причащение из рук использовали во вред, о чем рассказывается в книге историка Барона:
"Прискиллиан, великий разумом и витийством, и родом честен, и два епископи, Инстантий и Сальвиан, иже тай на беседы собирахуся, жены простыя и оплазивыя, и на зло преклонныя к себе превращающе. О том епископи уведавше... собор сотвориша, на который егда онии осужденнии епископи, и два мирстии Елпидий и Прискиллиан приити не хотяху, проклята суть... Приимаху сии еретики (прискиллианисты) в церкви евхаристию, но не снедающе в дом ю приношаху: и cue запретиша, повелевающе абие в церкви причащение в уста приимати и потребляти..." (Лето Господне 381, число 20).
"Разумеется, что вследствие большого промежутка времени между получением и принятием святого тела во уста могли утрачиваться мельчайшие частицы этого святого дара. А чрез это утрачивалось и самое благоговение к ним и даже страх Божий. Кроме того, чрез такое употребление святого причастия были даже и случаи самого возмутительного кощунства, как это видно из Четьи-Минеи, ноября 9-го дня; см. в конце жития преподобной Феоктисты) (Д. С. Варакин Там же).
Позднее святые отцы запретили мирянам не только получать св. дар в руки, но и выносить его из церкви. Наиболее остро выступил св. Иоанн Златоуст, поскольку в бытность его патриархом, в Константинополе, некая женщина, полученные в церкви св. дары уносила домой для совершения колдовских ритуалов. Узнав об этом, Св. Иоанн строжайше призвал церкви не возлагать в руки святое Христово Тело и Кровь, причащаться вином (Кровью Христовой) из лжицы и принимать Христово Тело исключительно в церкви - приобщающимся людям. Если раньше в виде причастного вина давали св. Христову Кровь в отдельной чаше, а св. Тело в руки, то со времен св. Иоанна Златоуста, св. Кровь Христова и св. Тело даются причащающемуся из лжицы, и право дотронуться до святых даров руками имеют лишь духовные лица, но ни в коем случае - не миряне (Д. С. Варакин. Там же).
Таким образом, в древней Церкви было и то, и другое употребление святых даров: и со лжицы, и чрез руку, но почему впоследствии оставлен лишь один способ принятия святых даров со лжицы. это из приведенных мною свидетельств ясно видно. Так что нарушения какого-либо обязательного для всех предания св. Церкви здесь не видно, а видно лишь одно большее усовершенствование преподания святых даров, установленное во избежание вышеприведенных мною случаев. Усовершенствование же каких-либо преданий и обычаев в Церкви Христовой не преступно, а дозволительно, как мы видим об этом у преподобного Викентия Лиринского; он, объясняя слова апостола Павла "О, Тимофее, предание сохрани..." (1 Тим., 6, 20), говорит: "В Церкви Христовой должно быть преуспеяние, и притом, весьма большое... Только преуспеяние это должно быть преуспеянием, а не переменою веры. Преуспеяние состоит в том, когда тот или другой предмет усовершается в самом себе, а перемена в том, когда что-нибудь перестает быть тем, что оно есть. Итак, пусть возрастают и в высшей степени пусть преуспевают по годам и векам разумение, ведение, мудрость как каждого, так и всех, как одного человека, так и всей Церкви, но только в своем роде, то есть в одном и том же учении, в одном и том же смысле, в одном и том же понятии. Ибо если однажды дать волю нечестивой лжи изменять, уродовать, искажать их, то ужасаюсь сказать, какая большая последует опасность разрушения и уничтожения религии. Тогда, отвергши одну какую-нибудь часть кафолического учения, как бы по обычаю уже и с позволения, начнут постепенно отвергать одну за другою и прочия части его. А затем, когда отвергнут части поодиночке, что иное последует, наконец, если не совокупное отвержение целаго? С другой стороны, если начнут примешивать к древнему новое, к домашнему чужое и к освященному непотребное, то обычай сей необходимо распространится по всему, так что после ничего уже не останется у Церкви — ни целого, ни неповрежденного, ни неиспорченного, ни нерастленного, но где прежде было святилище чистой и нерастленной истины, там будет, наконец, непотребный дом нечестивых и гнусных заблуждений. Да отвратит от умов наших непотребство это благость Божия! Пусть остается оно безумием нечестивцев!.. А кафоликам, напротив, действительно свойственно сохранять предания и поручения святых отцев, осуждать непотребные новизны и, согласно слову апостола, дважды изреченному им, анафематствовать того, кто благовестит не то, что принято" ("Памятные записки", главы 22, 23 и 24).
Итак, повторяю, принятие святых даров со лжицы, вместо руки, есть действительно усовершенствование или, скажу словами Викентия Лиринского, преуспеяние в Церкви Христовой, установленное во избежание того кощунства над святыми дарами, какое мною уже указано выше" (Д. С. Варакин. Там же).
Если обратить пристальное внимание, видно, что все литургические обычаи, используемые нашими оппонентами в оправдание изменчивости форменной стороны (особенно крещения) церковных таинств, в древности допускались в утверждение более совершенной формы, для пресечения некоторых злоумышлений. К тому же, согласно отмеченному выше, данные изменения были крайне незначительными и не касались Богом данной принадлежности церковных таинств.
О том, что всеми формами крестить недопустимо, утверждено 50-м правилом св. апостол (в котором нет альтернативных форм крещения и ясно говорится, что, "если кто не будет крестить троекратным погружением, да будет проклят").
В славянской Кормчей, в Схолии правил говорится: "Крещаемого погружати, а не обливати". Интересно, почему понадобилось святым отцам делать подобное примечание? (Подробно данный вопрос обсуждался выше, в главе: "50-е правило св. апостол"). Помимо этого, во всех правилах, связанных с крещением, говорится, что крещение должно совершаться троекратным погружением в воду и нигде не указывается какая-либо альтернативная форма.
"Если кто не крестит троекратным погружением с призыванием имени Отца, и Сына, и Святого Духа, да будет проклят" - Арсен Икалтойский ((1050-1127). "Догматикон"). Это правило из древнего греческого Требника, который вам уже хорошо известен. Из чина-приема монофизитов (Яковитов). В этом правиле не говорится: "Если, кто не крестит троекратным погружением или окроплением". Тут всего лишь указывается "троекратное погружение".
Остальные размышления к Таинству Крещения, с точки зрения формы, являются фантазией наших оппонентов, основанной на сомнительных, апокрифических памятниках подобных - "Дидахе".
Представители официальной Церкви, - оппоненты, - о крещении и связанных с ним вероучительных вопросах рассуждают, исходя из, исключительно, собственных взглядов.
Почему-то они не размышляют об одном весьма значительном вопросе: о значении символизма в Церкви. Ежели кто, начнет расхаживать с перевернутым крестом на шее, будет ли таковой считаться святотатцем, и ежели последний начнет к тому же проповедовать таковое, будет ли он считаться еретиком? – разумеется, будет! Почему? Потому что все состоит из обладающей содержанием формы, и разрушение последней, влечет за собой и деструкцию самого содержания. Человек может признавать св. Троицу, крестя неправильно. Вера у такового правильная, а форменное выражение - нет!
Если формы не имеют существенного значения, то почему тогда в 50-м правиле св. апостол утверждается неприемлемость однопогружательного крещения? Тогда бы говорилось: "Ваша форма крещения наиболее конкретно выражает Троичность Бога, по сравнению с тем, когда крещение совершается во Имя Троицы; Троицу признаем и мы, только нами совершается это через однопогружательное крещение". Как бы ответили таковым? – Греки таких латинян перекрещивали еще в XI веке (детально данный вопрос мы обсудим ниже).
Как полагаете? – разве те еретики, против которых св. апостолы утвердили крестильную формулу, не соблюдали свою еретическую форму? Знаете ли вы, сколько форм (символов) в православной литургике? А что, если их всех так же полагать несущественными? На это дает ответ сам св. Василий Великий: "Если будем отрицать неписанные обычаи и утверждать, будто они не имеют великой силы, то мы намеренно умалим значение Евангелия в главных предметах". Видите? – таким образом, оказывается "… умалим значение Евангелия в главных предметах", а "умаление Евангелия" сродни искажению догматических учений.
Давайте вернемся к "вышеприведенным оценкам св. Киприана, из числа которых особенно значимым является пастырское толкование обливательного крещения немощных" (Э. Ч. Там же. Стр. 297).
"И потому никого не должно смущать, когда видят, что больные принимают божественную благодать чрез окропление или облитие, тем более что Священное Писание говорит чрез пророка Иезекиля: и воскроплю на вы воду чисту, и очиститеся от всех нечистот ваших и от всех кумиров ваших; и очищу вас, и дам вам сердце ново и Дух нов дам вам (Иезек. 36, 25, 6). Тоже в книге Числ: кто не чист будет до вечера, сей да очистится (водою) в день третий и в день седмый и чист будет; аще же не очистится ею в день третий и в день седмый, нечист будет и потребится душа та от Израиля, яко вода окропления не воскропится нань (Числ. 19, 10, 12, 13). И еще: и рече Господ к Моисею глаголя: поими левиты от среды сынов Израилевых и да очистиши я; И сице да сотвориши им очищение их: покропиши на них воду очищения (Числ. 8, 5, 6, 7). И еще: вода окропления очищение есть (Числ. 19, 9). Отсюда явно, что и окропление воды действует на подобие спасительной бани, и когда это бывает в церкви, при чистой вере и принимающего и дающего, то все может восполниться и совершиться величием Господним и истинной веры" (Творения, Назв. Изд. Киев, 1891, с. 370-371).
Что сказать если святой отец ради оправдания своего личного мнения на окропительное крещение, ссылается на ветхозаветный пример окропления? В частности: "И окроплю вас чистою водою, и вы очиститесь от всех скверн ваших, и от всех идолов ваших очищу вас. И дам вам сердце новое, и дух новый дам вам; и возьму из плоти вашей сердце каменное, и дам вам сердце плотяное" (Иез. 36:25-26).
Еще: "Кто прикоснется к мертвому телу какого-либо человека, нечист будет семь дней: он должен очистить себя сею [водою] в третий день и в седьмой день, и будет чист; если же он не очистит себя в третий и седьмой день, то не будет чист; всякий, прикоснувшийся к мертвому телу какого-либо человека умершего и не очистивший себя, осквернит жилище Господа: истребится человек тот из среды Израиля, ибо он не окроплен очистительною водою, он нечист, еще нечистота его на нем. (Чис. 19:10-13).
И далее: "И сказал Господь Моисею, говоря: возьми левитов из среды сынов Израилевых и очисти их; а чтобы очистить их, поступи с ними так: окропи их очистительною водою, и пусть они обреют бритвою все тело свое и вымоют одежды свои, и будут чисты" (Чис.8:5-7)
Затем: вода окропления очищение есть (Числ. 19, 9).
Мы отмечали (и обсудим не раз), что ветхозаветная окропительная вода являлась символом благодати, а не окропительного крещения. А грехи, как известно, смываются благодатью, а не обычным омовением головы и тела (как раз на это и указывает св. Киприан). Окропительная (освящающая) вода имеется и в Христовой церкви. Ею священники и архиереи освящают людей, дома, различные предметы … примечательно, что во время такового окропления священник возглашает: "Благодать Святаго Духа".
Почему оппонентами опускается то, что в Ветхом Завете данную окропительную (освящающую) воду надлежало смешивать с кровью рыжей телицы, закланной вне стана (Числа 19:1-3), что являлось первообразом окропительной крови Исуса Христа. Ею он окропил Свой Крест, величайшей жертвой искупив грехи человечества. "Ибо, - глаголит св. апостол Павел, - если кровь тельцов и козлов и пепел телицы, через окропление, освящает оскверненных, дабы чисто было тело, то кольми паче Кровь Христа, Который Духом Святым принес Себя непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел, для служения Богу живому и истинному" (Евр.9:13-14).
И еще: "Так как тела животных, которых кровь для очищения греха вносится первосвященником во святилище, сжигаются вне стана, – то и Исус, дабы освятить людей Кровию Своею, пострадал вне врат" (Евр.13:11-13).
Итак, кровь закланной рыжей телицы, которая смешивалась с иссопом в окропительной освященной воде, являлась символом Христовой крови. Иссоп, по толкованию блаж. Феодорита является символом того, что "жизненная теплота уничтожала хлад смерти" (Блаж. Феодорит Кирский. Изъяснение трудных мест божественного писания. Изд. совет. русс. прав. церкви. Москва. 2003. Толк. на кн. Чис., вопр. 35, стр. 156).
"Телице надлежало быть рыжей. Цвет указывает на земное тело: Христом искуплен был грех Адама. Адам, в свою очередь, означает красную землю (глину)". (Блаж. Феодорит. Там же).
Священник кидал на сжигаемую телицу кедрово древо, иссоп и соскание червленое. Данные символы указывают на Христову жертву: древо кедрово (Числ. 19, 6) было знаменованием креста. Соскание червленое знаменовало Владычнюю кровь. Иссоп же – символ животворящей и очищающей силы благодати Христовой. "Окропиши мя иссопомъ, и очищуся: омыеши мя, и паче снега убелюся" (Пс.50:9) Блаж. Феодорит. Толк. на кн. Чис., вопр. 35). Блаж. Августин трактует так же.
Таким образом, растворенный в окропительной воде пепел сожженной телицы ("вода живая") (Числ. 19:17), который в законодательную пору Моисея освящал нечистоту, являлся соединенной с водой символом благодати, что и представляют из себя новозаветные крестильные воды, по словам св. Иоанна Благовестника: "Кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой" (Ин. 7:38). Числа, глава 19, полностью наполнена символикой спасительной жертвы Христовой и нисхождения благодати, но тут на этот раз останавливаться не будем.
Наши оппоненты не учитывают обстоятельство, согласно которому Ветхий Завет своим символизмом отождествляет не только прообраз трехдневного погребения (погружение) Христова, но и прообразы соединенной с водой благодати.
Поэтому, по толкованию святых отцов, "окропительная вода", благодаря которой в древнем Израиле совершалось очищение (освящение), являлась прообразом очищения благодатью. Св. Киприан в приводимых примерах действительно подразумевает крещение окроплением, но тут же примечает, что это – всего лишь его сугубо частное мнение, не являющееся общепринятым правилом. Святая же Церковь такое мнение отвергает.
Тем более, что другие святые отцы данные места писания трактуют, как прообраз - окропления креста Христовой кровью, искупления человечества от первородного греха и очищающей благодати. Исходя из этого св. отцы (к примеру, Кирилл Александрийский) ясно утверждали, что "окропительная вода", смешанная с кровью теленка, является прообразом крещения и очищения благодатью.
Св. Кирилл Александрийский детально истолковывает вопрос, связанный с рыжей телицей, сжигаемой вне стана (см. Числа. Гл. 19) научая, что окропление водой смешанной с пеплом сожженной телицы полагается прообразом спасительной жертвы Христа, Им на кресте окропленной крови, и вместе с этим, благодати самого креста, благодаря которому очищается всякий и которая дается через образ погребения Христа - троекратного погружения в воду.
Святой отец толкует, что весь жертвенный ритуал (принесение в жертву красной телицы) целиком и полностью указывает на спасительную жертву Христа. Аналогично толкуют об этом - блаж. Августин и Иероним.
Итак, исходя из толкований многих св. отец проясняется, что ветхозаветные примеры св. Киприана являются не прообразами формы совершения Таинства Крещения, а прообразом смешанной с водой благодати, потому как, согласно совершенно справедливому толкованию св. Киприана, "В спасительном таинстве греховные язвы не так омываются, как нечистоты кожи и тела в мирской и плотской бане, где для того, чтобы омыть и очистить все тело, нужны бывают селитряный цвет с прочими снадобьями, ванна и водоем..." (См. Э. Ч. "Душа-живая". Стр. 290).
***
Давайте вновь вернемся к письму св. Киприана, в котором, как отмечает Э. Челидзе, "Обособленно значимым является пастырское толкование обливательного крещения пребывающих в немощи, что окончательно разрушает возможность всяких спекуляций (в отношении состояния немощных, находящихся на ложе) на данную тему" (Там же. Стр. 297). Однако ж, человеком, спекулирующим этой темой, как раз-таки является Челидзе.
Помимо выше освидетельствованных мест, Э. Челидзе в упомянутом письме св. Киприана делает акцент и на целый ряд высказываний, опираясь на которые, частное мнение святого о совершении обливательного крещения в случае "крайней необходимости", представляет, как общецерковную практику.
Очевидно, что Э. Челидзе занимается не только толкованиями, но и порицанием своих оппонентов. Среди обсуждаемых письменных высказываний св. Киприана, Челидзе отмечает следующее: "… и окропление воды действует на подобие спасительной бани, и когда это бывает в церкви, при чистой вере и принимающего и дающего, то все может восполниться и совершиться величием Господним и истинной веры" (Э. Ч. Упом. Тр. Стр. 298).
По мнению Челидзе, "… согласно последней части представленной цитаты, очевидна общепринятость вышеприведенного учения Киприана, в котором прямо говорится, что обливательное крещение совершалось не только в домах тяжело больных, но и в церквях, к тому же не в отношении отроков (скажем, больных детей), но взрослых, поскольку пастырь подчеркивает неколебимую веру крещаемых, присущую взрослым, осведомленным людям, соответственно, крещению таковых. Данный момент не оставляет сомнений в допустимости упомянутой (обливательной) формы крещения, совершаемой и в пору священнодействия в лоне самой Церкви (а не только в месте нахождения т. н. клиников и умирающих)" (Там же).
Если предположить, что это правда, возникает странная неопределенность: если толкование св. Киприана в отношении "обливания" являлось общепринятым правилом церкви, отчего же Магнус вопрошает (тем более, если он, как утверждают некоторые исследователи, - епископ) о клиниках, обливательно крещенных?
Вопрос Магнуса высвечивает и твердо подчеркивает факт, согласно которому обливательное крещение клиников (как и в целом, таковое крещение) не соответствовало общепринятому правилу Церкви. Иначе в отношении обливательного крещения (тем более, если являлось общепринятым, утвержденным на практике правилом Церкви) не стал бы возникать вопрос.
Несмотря на это, Э. Челидзе язвительно вопрошает: "Возможно ли, чтобы данные слова, освидетельствованные, для кого бы то ни было, звучали двусмысленно (очевидно, исключение составляют люди, изъязвлённые вовеки гибельной страстью гордынной лжи)? (Там же. Стр. 300).
"Как мы уже отмечали, - заявляет в другом месте Э. Челидзе, - "догматическое" учение современных перекрещенцев, обязывает всех едва приставших с ложа обливательно крещенных клиников, к обязательному погружательному крещению, поскольку таковые (крещенные обливательно), судя по их идолопоклонническому разумению, считаются язычниками и как будто священник, в их отношении обязан совершить полное крещение.
"Вновь послушаем", - отмечает "ученый", ссылаясь на ранних оппонентов, с которыми, в бытность последних живыми, "разбирал вопросы научно и во взаимной любви" (Церковь – невеста Божья". Стр. 1): "В отношении выжившего, крещенного в пору подобных чрезвычайных исключений, священник обязан совершить полное и каноническое правило крещения, то есть, крещенного таким образом (обливательно – Э. Ч.) человека, Церковь принимает как еретика, и по новому крещению позволяет присоединиться к мирянам". См. газету перекрещенцев "Божественная стезя", 2 стр. 7". Пишет Э. Челидзе.
И, нижеследующую цитату ранних оппонентов увенчивает комментарием: "Засим… змееречивые, льющие простецам в самые уши - отраву вечнопроклятого соблазна второкрещения величают себя "древлеправославными", хотя сами являются хулителями истинного православия как раз-таки древнего, то есть, первовекового и эпохи Вселенских соборов (?) - по причине, хотя бы, вышеназванного лжедогмата, для искоренения которого, сошлемся на совершенно ясный, конкретный ответ св. Киприана Карфагенского - божественной трубы древнего, то есть, истинного православия, по указанному вопросу, вслед за вышеприведенной цитатой" (Душа-живая" Стр. 303).
После этого, Э. Челидзе для обличения "лжедогмата" ссылается на толкование св. Киприана: "И, если кто полагает их (крещенных на ложе – Э. Ч.) ничего не возымевшими, и остаются пустыми и бесплодными, поскольку облиты лишь спасительной влагой, пусть не обманываются, что якобы должны креститься по освобождении от тяготы болезни и выздоровлении. Но если не могут креститься уже освященные церковным крещением люди, отчего таковым смущаться относительно собственной веры и божественного милосердия?.." (Перевод текста Челидзе).
И, наконец, предлагаем подведенные им итоги по поводу данной цитаты св. отца, содержащегося в письме:
"Вот вековое определение истинного древлеправославия: "пусть не обманываются, что якобы должны креститься по освобождении от тяготы болезни и выздоровлении";
Еще:
"Не могут быть крещаемы те, которые уже освящены церковным крещением";
И, наконец:
"Дух Святой дается не мерою, но на каждого верующего изливается весь".
Что сказать о таком учении св. Киприана Карфагенского, и следовательно, об оценках Э. Челидзе? Давайте обратимся к переводам киевского и московского духовных академий, в которых дословно пишется:
"И потому, сколько нам дано разуметь верою и мыслить, МОЕ МНЕНИЕ таково, что всякого кто получил божественную благодать в Церкви, по закону и праву веры, должно почитать законным христианином. И если кто считает их ничего не получившими, ничего не имущими, потому что они только облиты спасительною водою; то все же ПУСТЬ НЕ ОБОЛЬЩАЮТ ИХ, ЗАСТАВЛЯЯ КРЕСТИТЬСЯ, по освобождении от тяготы болезни и выздоровлении. Не могут быть крещаемы те, которые уже освящены церковным крещением: так для чего же соблазнять их в их вере и благости Господней?" (Цит. Киприан Карфагенский, свщмч. 62. Письмо к Магну о крещении Новациан и о получивших крещение в болезни. http://www.odinblago.ru/kiprian_1/62; См. также: Св. Киприан епископ Карфагенский. Творения. Письмо к Магну о крещении новациан и о получивших крещение в болезни. Москва 1999 г. Изд. "Паломник". Стр. 646-650).
Из приведенного текста следует, что, во-первых, св. Киприан выражает сугубо личное (не общецерковное) мнение. Во-вторых, советует не крестить заново и не заставлять креститься тех, кто освободился от тяготы болезни.
Перевод у Э. Челидзе звучит так: "пусть не обманываются, что якобы должны креститься по освобождении от тяготы болезни и выздоровлении".
А в издании киевской и московской Духовных Академий значится так:
"… то все же пусть не обольщают их, ЗАСТАВЛЯЯ КРЕСТИТЬСЯ, по освобождении от тяготы болезни и выздоровлении" (Св. Киприан епископ Карфагенский. Творения. Москва 1999 г. Изд. "Паломник". Письмо к Магну о крещении новациан и о получивших крещение в болезни, стр. 648).
Из вышеприведенных слов не следует, что обливательное крещение являлось правилом общецерковным, распространяющимся не только на крещение больных, но и здоровых людей в Церкви. Более того, крещенных таким образом, заставляли креститься заново, на что ясно указывают слова св. Киприана.
В случае, если даже не трогать цитату, к которой прибегает Челидзе: "Пусть не обманываются, что якобы должны креститься по освобождении от тяготы болезни и выздоровлении", так и так имеем смысловое содержание, согласно которому св. отец не разделяет мысли о необходимости повторного крещения обливательно крещенных клиников (разумеется, погружательно) к тому же ясно подтверждается факт существования традиции повторного крещения обливательно крещенных клиников.
Итак, кто же еще согласно восприятию Челидзе, кроме древлеправославных, может подходить под яркое описание - "… змееречивые, вливающие простецам в уши - яд вечнопроклятого соблазна второкрещения величают себя "древлеправославными", хотя являются хулителями истинного православия как раз-таки древних, то есть, первых веков и эпохи Всемирных соборов (?) хотя бы по причине вышеназванного лжедогмата, для искоренения которого, тут же сошлемся на совершенно ясный и конкретный ответ св. Киприана Карфагенского - божественной трубы древнего, то есть, истинного православия по указанному вопросу, что вызвано вышеприведенной цитатой. (Душа-живая" Стр. 303)?
Получается, "таковыми являются" современники св. Киприана Карфагенского – православные христиане: духовные лица и, возможно, сам Магнус. В частности, все православные пастыри или святые, которые, как мы убедились выше, в последующих церковных столетиях яро противостояли обливательному крещению. И более того, заново крестили с покаянием обращающихся еретиков, которые ранее руководствовались утвержденным в своей среде обливательно-окропительным правилом.
В который раз Челидзе разгорается руганью в адрес не только глубоко ненавистных ему древлеправославных, но и святых и богословов общей церкви (имеется в виду православный период до 17 в.) и современной своей, словом, в адрес тех, кто категорически выступал (и выступает) против обливательно-окропительного крещения. Все они профессором Челидзе наречены "спекулянтами", определены, как "змееречивые" и "извергающие яд…" в то время, как выражения "возмутительное безверие" и "змееречивость" сами по себе относятся к его словам и поступкам.
Для оправдания обливательно-окропительного "крещения" Э. Челидзе наматывает на палец еще одно высказывание св. Киприана Карфагенского. Им является термин "церковное крещение" в предложении св. Киприана: "Не могут быть крещаемы те, которые уже освящены церковным крещением". Челидзе пишет: "… обозначение св. Киприаном обливательного крещения "церковным крещением", разумеется, исключало возможность полагать таковое крещение чрезвычайным, потому как то, что принято считать церковным, непременно является законным, каноническим" (Там же. Стр. 306).
Под термином "церковное крещение" св. Киприан подразумевает то, что оно было совершено в церковном лоне. Действие было совершено в Церкви, поэтому, по разумению святого, имеет силу и благодать (сравн.: "Не могут быть крещаемы те, которые уже освящены церковным крещением: так для чего же соблазнять их в их вере и благости Господней?").
В другом месте св. Киприан пишет:
"... Отсюда явно, что и окропление воды действует на подобие спасительной бани, и когда это бывает в церкви, при чистой вере и принимающего (крещаемого – архиеп. П.) и дающего (священника – архиеп. П.), то все может восполниться и совершиться величием Господним и истинной веры" (Священномученик Киприан Карфагенский. Письма. 62. Письмо к Магну о крещении Новациан и о получивших крещение в болезни https://azbyka.ru/otechnik/Kiprian_Karfagenskij/pysma/#0_64).
По поводу данного аргумента заметим, что св. Киприан условием получения Божьей благодати при обливательном крещении называет его совершение в Церкви потому, как категорически отрицал даже погружательное крещение, совершаемое еретиками вне Церкви. Засим исключалось, чтобы св. Киприан, - человек, категорически отрицающий любое таинство, совершаемое в еретическом обществе, не отметил, что священнодействие, совершаемое во время чрезвычайной необходимости, действует непременно, если совершается исключительно в лоне Церкви.
Помимо этого, о самом высказывании "церковное крещение" можно сказать то же самое, что было отмечено нами в отношении обливательного крещения клиников, во что, собственно, и вносил сомнение Магнус (а вместе с ним и другие христиане, как это видно из ответа св. Киприана – Магнусу).
В частности если выражение "церковное крещение" действительно говорит об общецерковности обливательного "крещения", то почему у Магнуса возникает столь странный вопрос, тем более, если он епископ? Вдобавок, согласитесь, и св. Киприану не понадобилось бы заявлять, что он выражает сугубо личное мнение, причем той мерой, какую позволяет кротость… " Мы, сколько разумеет мерность наша, полагаем...".
Как бы сопоставлялось выражение "… разумеет мерность наша…" с логичностью, если бы речь велась о "церковном правиле"? В независимости от "разумения или неразумения мерности", при наличии правила, последнее должно соблюдаться, причем безоговорочно и твёрдо, подобно тому, как св. Киприан соблюдал свое отношение касаемо еретического "крещения".
Так же, следует считать совершенно неуместным в контексте понятие "полагаем" … о чем полагать, когда речь о "церковном таинстве", правиле, являющимся общецерковным, которое следует неукоснительно соблюдать? Обдумывание, рассуждение, личное мнение, или… "… в этом отношении скромность и смирение наше никого не предупреждает своим мнением, предоставляя всякому думать как угодно и поступать как думает" (Св. Киприан Карфагенский. Там же.), ... и что ... "предоставляя всякому думать как угодно и поступать как думает" имеет место в случае, когда речь ведется об отклонении от общепринятого правила при чрезвычайных обстоятельствах, когда нет прямого, однозначного ответа в церковной практике.
Ясно, что ни у кого не мог возникнуть подобный вопрос, если бы обливание являлось "церковным крещением". Св. Киприан должен был противостоять ему так же, как и в пору практики приема еретиков - вопросу их крещения (и в целом, касательно таинств, которые они совершали).
Иначе говоря, каким образом возник бы вопрос в отношении установления являющегося общим, повсеместным, церковным? Несмотря на это, по толкованию Челидзе речь о твердо установленной практике. И поскольку возник у Магнуса вопрос, и христиане действительно вновь крестили клиников, очевидно, что и этот "аргумент", приводимый Э. Челидзе в качестве доказательств, вырван был с корнями из логического положения дел и является ловко "напаутиненным" (термин "ученого" - Челидзе) измышлением.
Почему, судя по Челидзе, - св. Киприан не стал обличать "схизматиков, появившихся в Церкви", не сказал им - "как смеете утверждать в Церкви повторное распятие Христа? Почему ни словом не упомянул "перепогружение" и почему тех, кто вновь крестил клиников, не обличил, сказав: ""Коварные глупцы" или "хамы", как смеете отвергать обливание – церковно-каноническое крещение! Хуже того, как смеете перекрещивать канонически крещенных христиан"? – Во-первых, потому что св. Киприан не был хамом, в отличие от "ученого" - Челидзе, и во-вторых - обливательное крещение клиников он не считал канонической практикой Церкви. А если бы считал, то несомненно выступал бы категорически против отвержения - обливательного крещения и его повтора в целом.
Однако, ничего подобного не наблюдаем. Более того, св. Киприан предлагает принять или же отвергнуть его личное мнение. Может ли, тот или иной святой в отношении несомненного канонического учтановления Церкви высказываться столь размыто и неопределенно?
В связи с ответом св. Киприана Магнусу окончательно хотелось бы означить: мы не оспариваем факт, согласно которому святой полагал обливательно крещенного на ложе христианина - преисполненным благодати, но таковое имело место по причине исключительно чрезвычайных обстоятельств. В отличие от Э. Челидзе, полагаем воздержаться от категорических утверждений. Основанием этому служит сам св. Киприан Карфагенский (детально вопросы крещения в исключительных случаях, обсуждаются ниже).
***
Итак, из письма св. Киприана к Магну следует:
1) Св. Киприан обливательное крещение полагает допустимым "в случае крайней необходимости" и, в связи с этим толкует: "... Отсюда явно, что и окропление воды действует на подобие спасительной бани, и когда это бывает в церкви, при чистой вере принимающего (крещающего – Архиеп. П.) и подающего (священника – Архиеп. П.), все может восполниться и совершиться величием Господним и истинной веры" (Священномученик Киприан Карфагенский. Указ. соч.).
На вопрос (можно ли считать истинными христианами, крещенных в болезни и немощи, но не подвергшихся омовению (не погруженных – архиеп. П.) а только облитых спасительной водой, св. Киприан отвечает не с законодательной позиции, как пытается сплавить Челидзе (тщательно скрывая данное место письма), но как раз-таки с осторожностью, причём, выражаясь предположительно, используя слова: "… сколько разумеет мерность наша".
Св. Киприан, пишет: "В этом отношении скромность и смирение наше никого не предупреждает своим мнением ... предоставляя всякому думать как угодно и поступать как думает. Мы, сколько разумеет мерность наша, полагаем, что благодеяния Божии ни в чем не могут быть недостаточны и слабы, и что нельзя получить чего- либо меньше там, где с полною верою, и принимающего (крещающего – Архиеп. П.) и подающего (священника – Архиеп. П.), приемлется то, что черпается из божественных даров" (Там же).
Как мы уже говорили, собственное мнение св. Киприан высказывает с великой осторожностью, говоря предположительно, и, кстати, использует и следующее выражение: "И потому, сколько нам дано разуметь верою и мыслить, мое мнение таково..." (Там же). И т. д…
Особенно примечательны заключительные слова св. Киприана, которые, если не трогать всё прочее, превращают в пыль построенную на песке "богословскую" структуру Э. Челидзе: "Я отписал на письмо твое, возлюбленнейший сын, сколько была в состоянии сделать это наша малая мерность, и показал, как мы посильно думаем, никому не навязывая своего мнения; всякий предстоятель волен распорядиться по своему усмотрению, имея отдать отчет Господу в своем действии") (Там же).
Ну и где же тут "законодательство" св. Киприана? Где представлено твердое "церковное правило"? Или все-таки данное мнение является частным, и святой отец никому его не навязывает?
Мнения, в которых наблюдается частный, предположительный характер высказываний св. отца, возведены в ранг обязательного догмата. Тех, которым св. Киприан не запрещает иметь иного мнения по данному вопросу, давая им свободу воли, Э. Челидзе именует змееречивыми, личное мнение св. отца называя общецерковным.
Э. Челидзе обходит стороной данные нюансы обсуждаемого письма и дело представляет столь незамысловато, будто святой является законодателем обливательного "крещения" и, что особенно важно, якобы свидетельствует о твердом общецерковном правиле.
Давайте спросим Э. Челидзе: разве может св. отец в отношении установившегося церковного правила говорить, что упоминание такового является "личным мнением" и что его он "… не навязывает никому", и что "каждый может мыслить и действовать так, как считает нужным"? Напротив: неужели твердое церковное правило не обязывало св. Киприана сказать наотрез - мол, обливательное крещение является равнозначным погружению - законным правилом и равно принятым от св. апостол наряду с омовением?
Разве не мог св. Киприан сослаться, скажем, на пресловутый "Дидахе", который выставляется Э. Челидзе в качестве общепринятого в ту пору Катехизиса и непререкаемого учения св. апостол? Отчего св. Киприан выражается тогда с такой осторожностью? Не оттого ли, что его высказывание никак не является общепринятым правилом и представляет всего лишь частное мнение святого?
Челидзе уродует высказывание св. Киприана: "Не могут быть крещаемы те, которые уже освящены церковным крещением: так для чего же соблазнять их в их вере и благости Господней?".
При этом, "ученый" упускает фразу, которая предшествует этому заключению. Нам известно, что по учению св. Киприана, церковные таинства могут быть совершены и неполным образом, но это лишь "в случае крайней необходимости".
Также Киприан отмечает (осторожно, но не категорически): "И, если кто считает их (клиников – архиеп. П.) ничего не получившими, ничего не имущими (тут, очевидно, имеется в виду получение Божьей благодати – архиеп. П.), потому что они только облиты спасительною водою; то все же пусть не обольщают их, заставляя креститься, по освобождении от тяготы болезни и выздоровлении. ...
Именно за этим предложением следует фраза: "Не могут быть крещаемы те, которые уже освящены церковным крещением: так для чего же соблазнять их в их вере и благости Господней?"
Это выражение святым обозначено, как личное мнение, принятие-непринятие которого считает личным делом каждого, исходящим из свободной воли и взглядов пастыря.
Итак, исходя из всего написанного св. Киприаном, видно, что не для всех в Церкви крещение "клиников" являлось приемлемым. Поэтому всех клиников крещенных обливательно, перекрещивали заново, поскольку полагалось, что таковые оставались без благодати. Однако, св. Киприан, в отличие от многих, на этот счет мыслит иначе, и несмотря на то, что он уверен в своей правоте, в высказываниях проявляет огромную осторожность и никого к обязательному исполнению не принуждает: "В этом отношении скромность и смирение наше никого не предупреждает своим мнением, предоставляя всякому думать как угодно и поступать как думает" (Св. Киприан Карф. Указ. Соч.)
На 410-й странице авторской книги "Душа живая" (Тб. 2012), Э. Челидзе, нарёкший нас "коварными" и "тупыми", обсуждая правила - Неокесарийское 12-е и Лаодикийское 47-е (Подробнее см. ниже), желчно и недвусмысленно трактует значение "коварства" и "тупости": "Коварство подразумевает попытку переиначить согласно собственному разумению, "перелукавить", "перезаконить" постановления Вселенского Собора (очевидно, то же самое имеется в виду в отношении сочинений св. отец – архиеп. П.), а безтолковая, невежественная тупость всплывает, когда кому-то мерещится, что с вышеприведенными законодательными положениями никто кроме него не ознакомлен, что никто их не трактовал..." (Там же. Стр. 410).
Выше довелось запечатлеть, как "богослову" Челидзе в согласии с "собственным разумением" удаётся старательно "перелукавить" и "перезаконить" ответ святого отца. Он абсолютно коверкает ответ Киприана, опуская целый ряд значительных высказываний, которые могут воспрепятствовать "нужным" заключениям, а вырванные из контекста слова остаются туманными, создавая впечатление, что пишется об общецерковной истине.
Подобные ухищрения, Э. Челидзе характеризует "коварством", и поскольку самого Челидзе выдаёт не только брехливость, но и, главным образом, "коварство", подобными определениями в его "добропорядочный адрес" никто бы не ушел от правды.
Но и это еще ничего. "Богословские" и "научные" трактовки Э. Челидзе полны не только коварства и лжи, но и, по следам слов самого Челидзе - "безтолковой, невежественной тупости", потому как Челидзе уверен, что никто кроме него "с ответом св. Киприана ознакомлен не был". Более того, упомянутые эпитеты вновь могут зазвучать в адрес Челидзе, исходя также и из других свидетельств, не только обозначенных ране, но и тех, что мы намерены рассматривать ниже. Среди них правила Неокесарийского и Лаодикийского Соборов.
***
Итак, полагаем, что нам удалось, и довольно-таки неплохо, уличить в мошенничестве проф. Э. Челидзе по части его высказываний о письме св. Киприана к Магну. Казалось, можно было бы остановиться на этом, но существует необходимость рассудить данную проблематику с другой стороны. В частности, необходимо поделиться соображениями относительно твердости или нетвердости взглядов св. Киприана о крещении и о некотором еще факте, расписанном ниже.
Церковь всегда признавала одно крещение (то есть, крещение, совершенное один раз), посему так же, как и в нынешнее время, в первые века крещение не повторяли; подобное совершалось лишь в отношении еретиков, да и местами.
Некоторые восточные церкви, как и большинство карфагенских и африканских церквей, перекрещивали всех обращенных в православие еретиков, поскольку учение последних, согласно которому совершалось крещение, полагалось неправильным и не принималось. А вот другие церкви, в частности, александрийская и римская, напротив, не перекрещивали еретиков (вернее всех еретиков), если Таинство Крещения было совершено в своё время правильной формой - погружательно и с призыванием Имен: Отца и Сына и Святого Духа.
В связи с разногласиями во взглядах на вопрос о крещении и по приему еретиков, в середине III века разразился немалый диспут. Римский епископ Стефан (235-257) в адрес восточной и африканской Церквей утверждал, что для обращающихся в истинную веру не следует совершать повторного крещения, и, всем мыслящим иначе, предвещал разрыв евхаристического единства, а епископу карфагенскому, начавшему свою деятельность ещё в Римской Церкви, грозился отлучением.
С другой стороны, перекрещивать еретиков требовали епископ Фирмилиан каппадокийский и Киприан карфагенский. Они утверждали, что благодать находится только в истинной, христианской Церкви, и поэтому крещение, совершаемое вне лона оной, не является настоящим.
Данному вопросу было посвящено несколько соборов: один в Малой в Азии (253 г.) и три в Карфагене (255- 256 гг.), на которых, согласно постановлению, было решено перекрещивать всех еретиков. Святой Дионисий Александрийский с своей церковью держался взгляда одинакового с Римской церковью, но подобно Иринею лионскому, своими посланиями старался убедить Стефана не нарушать мира и церковного единства, предоставив каждой церкви действовать в этом случае сообразно своим преданиям.
Эта разность во взглядах на крещение еретиков оставалась до IV века, когда на вселенских соборах были установлены общие правила, каких еретиков принимать в Православную Церковь через перекрещивание и каких нет (т.е. каких еретиков крещение признавать действительным).
В данном споре особо твердую позицию занимал св. Киприан Карфагенский, который не только не признавал таинств, совершенных в еретическом обществе, но и в случае обращения еретиков в истинную церковь требовал их перекрещивать, но, когда встал вопрос как принимать новатиан (о них см. ниже), св. Киприан выступил категорическим отрицанием. Не следует принимать в иерархических степенях даже тех новатиан, которые свои иерархические степени получили в кафолической церкви. Поскольку, как говорил св. Киприан, они обратили то оружие, которое дала им церковь, против нее самой, поэтому не имеют права употреблять его по обращении в церковь. Тем более это следует сказать о хиротонисованных у новатиан епископах (См. Проф. В. В. Болотов. История Древней Церкви т. II. IV. Споры о дисциплине и расколы в древней церкви. 3. Спор о крещении еретиков. http://www.odinblago.ru/bolotov-2/8).
Мы рассказали эту историю, чтобы у читателя возникло представление, сколь твердым был св. Киприан в вопросе крещения еретиков, и сравнить с его взглядом на заданный Магнусом вопрос. Ответ св. Киприана ясно свидетельствует о том, что святой никому не навязывает личного мнения и предоставляет всякому… "… думать как угодно и поступать как думает".
В заключении письма к Магну говорится: "Я отписал на письмо твое, возлюбленнейший сын, сколько была в состоянии сделать это наша малая мерность, и показал как мы, посильно, думаем, никому не навязывая своего мнения; всякий предстоятель волен распорядиться по своему усмотрению, имея отдать отчет Господу в своем действии, как пишет и говорит в своем послании к Римлянам блаженный апостол Павел: кийждо нас о себе слово даст Богу, не ктому убо друг друга осуждаем (Рим. 14, 12. 13)".
Э. Челидзе, как мы убедились ясно, искажает мнение святого, высказанное весьма осторожно, намеренно опускает места, в которых св. Киприан собственное высказывание трактует, как сугубо личное мнение и "… предоставляет каждому думать как угодно и поступать как думает". Таким искажением, Челидзе старается свой весьма искаженный взгляд возвести в ранг законодательный.
Но действительно твердым и неколебимым взглядом обладал св. Киприан в деле крещения еретиков и принятия хиротонии. Законодательная деятельность св. Киприана проявилась именно в вопросе приема еретиков, о чем свидетельствуют трое африканских Соборов.
Итак, св. Киприан принимал участие в трех карфагенских соборах (255-256), на которых было принято решение перекрещивать обращающихся в Церковь еретиков. Наряду со св. Киприаном на соборе 255 г. присутствовал 31 епископ. Причиной созыва Собора стало коллективное письмо 18 нумидийских епископов по вопросу крещения еретиков. В ответ они получили соборное постановление: еретиков надо обязательно крестить.
Весной 256 г. состоялся очередной собор, на котором уже присутствовал 71 епископ. На данном Соборе было подтверждено постановление предыдущего Собора по вопросу крещения еретиков. Святитель Киприан написал епископу Стефану об этом и это письмо вместе с актами Собора было отправлено в Рим. Какова была позиция Стефана известно: он категорически потребовал защитить предания Рима – не крестить еретиков, а инакомыслящим угрожал отлучением. Фирмилиан – епископ каппадокийский написал св. Киприану сочувственное письмо, в котором назвал Стефана глупцом (письмо 75, XVII, 1) и сказал, что, отлучив все Восточные Церкви (включая Африку), он, Стефан, по существу, отлучил от Церкви самого себя (письмо 75, XXIV, 2).
В 256 году (1 сентября 256 г.) состоялся уже третий Собор с участием святителя Киприана, на котором присутствовало 87 епископа. Протокол этого Собора, озаглавлен: "Мнения 87 епископов о необходимости крещения еретиков".
Это было соборным ответом Стефану. Собор свое мнение озвучил единодушно.
1) Заседание началось с прочтения писем о крещении еретиков, которыми обменялись епископ Юбайан и святитель Киприан.2) Затем они зачитали послание предыдущего Собора к папе Стефану.3) Вслед были зачтены ответные угрозы Стефана.4) И в заключении, обращение святителя Киприана Карфагенского к присутствующим:
"Вы слышали, дорогие коллеги, письмо епископа Юбайана, советовавшегося со мной о беззаконном и нечистом крещении у еретиков, и мой ответ, содержащий неоднократно высказываемое мною мнение, что грешников, возвращающихся в Церковь, должно крестить и освятить крещением в Церкви. Прочтено вам и другое письмо Юбайана, в котором он, искренний и благочестивый, не только выражает свое согласие со мной, но и благодарит меня за то, что теперь он наставлен. Теперь остается каждому из нас выразить свое мнение по этому поводу, никого не осуждая и не отлучая за иной образ мыслей. Никто из нас не поставляет себя епископом епископов и не принуждает, тиранически запугивая, своих коллег к непременному повиновению. Каждый епископ свободен и может пользоваться своей властью по своему усмотрению; он не может судить другого и другим не может быть судим. Подождем все суда Господа нашего Исуса Христа, Который Один имеет власть и ставить во главе Своей Церкви и судить о наших действиях" (см. Св. Киприан Карфагенский и его время. Затем каждый епископ (в протоколе названо имя и город, в котором он занимал кафедру) излагал свою "сентенцию"") (См. Св. Киприан Карфагенский и его время. http://mstud.org/chronicle/councils/local/carthage/256.htm) (Время обращения к URL: 07.08.2020).
Вот каково было законодательство св. Киприана хотя бы в вопросе, в котором он ничуть не сомневался. И несмотря на это, св. Киприан даже тут по отношению к другим не проявляет категоричность, он никого не принуждает к неукоснительному подчинению к собственному мнению; означает, что каждый епископ свободен, признает право епископа пользоваться собственной властью по своему усмотрению.
Св. Киприан подтвердил правоту своих убеждений, касаемо крещения еретиков, постановлениями трех Соборов, в то время как, вопросу обливательного крещения, который донельзя искажен Э. Челидзе, называющим обливание "законодательством" св. Киприана, не был посвящен ни один Собор. Киприан Карфагенский, собственное мнение в отношении обливательно-окропительного крещения клиников, нигде: ни на одном соборе, или где-либо - устно или письменно, не защищал. Нам иной факт по этому поводу неизвестен. Личное мнение святителя осталось лишь на страницах истории, принадлежа христианской археологии всего лишь как письмо, адресованное Магну.
Давайте теперь рассмотрим, какова судьба других убеждений св. Киприана, которые он столь горячо защищал и доказывал на соборах? Что стало с убеждениями, которые, действительно, благодаря соборному постановлению можно назвать законодательством св. Киприана Карфагенского и всей африканской Церкви?
В эпоху Вселенских соборов Церковь отвергла законодательство св. Киприана и африканских соборов в отношении приёма обращающихся в Церковь еретиков (Церковь не отвергла крещение лишь тех еретиков, которые формой (погружение) и формулировкой (Во Имя Отца и сына и Святого Духа) не отличались от православных, но что самое примечательное, собственную практику отвергли – даже сам Киприан и африканская Церковь.
Об этом пишется в творениях св. Иеронима Стридонского: "Старался блаж. Киприан избежать обычно посещаемых озер и не пить воды чужой; с целью, отвергая крещение еретиков, он при тогдашнем римском епископе Стефане, который был двадцать вторым, считая от блаженного Петра, составил по этому предмету собор африканский. Но старание его осталось тщетным. Те же самые епископы, которые, вместе с ним постановили перекрещивать еретиков, возвратившись потом к древнему обычаю, издали новое определение. Что делать? Наши предки передали нам так, а их передали им иначе" (Творение т. IV, стр. 90-91, изд. 1868 года).
В "Историческом феатроне" пишется: "… "Около крещения еретиков, святого Киприана погрешение бысть, иже всех от ереси приходящих и возвращающихся к церкви паки крестить должно глаголаше. Бысть в сем деле великий собор в Карфагене, иже прегрешение Киприаново утверди" (Феатрон исторический, печ. Спб. 1724 г., исход 6, третьяго века о соборах, л. 163).
Затем, в книге Барония под летом 258, на л. 251 об. читаем: "Пишет, Августин (о крещении против донатистов книга 2-я, глава 4 и епистолия 48), яко мнози епископы в Африке, сего святого Киприана о крещении учения не похвалиша и о самом имать надежду, яко прежде смерти о сем покаяся". Известно, что он вместе со Стефаном и его преемником Сикстом сохранил мир и единство и удостоился мученического венца в лоне Церкви; если бы не это, вся восточная и западная Церковь не стала бы отмечать день его смерти, память же о Стефане отмечают и греки (Бароний. Лето Господне 258, чис. 8, л. 251 об.).
"Что же, наконец, последовало? - вопрошает преп. Викентий Лиринский (V в.) - Какое влияние имели самый собор африканский (1) или решение его? По милости Божией, никакого; но все, как сновидения, как басни, как нелепости, отменено, отвергнуто, попрано. И, – о чудный оборот обстоятельств! Виновники того мнения признаются православными, а последователи – еретиками, учителя разрешаются, а ученики осуждаются, писатели сочинений будут сынами царствия, а защитники оных подвергнутся геенне; ибо кто столь безумен, что усомнится в том, что светило всех святых, епископов и мучеников, блаженнейший Киприан, и прочие товарищи его будут царствовать со Христом во веки? Или, напротив, кто столь нечестив, что станет отрицать, что донатисты и прочие заразители, хвастающиеся тем, что перекрещивают по авторитету собора того, навсегда будут гореть с диаволом?.." (Св. Викентий Лиринский. Памятныя записки. Гл. 6, стр. 30-35. Напоминания, стр. 10. Изд. Казань. 1904 г. //См. также: преподобный Викентий Леринский. Памятные записки Перегрина о древности и всеобщности кафолической веры против непотребных новизн всех еретиков. https://azbyka.ru/otechnik/Vikentij_Lirinskij/pelegrin/#note19_return).
_______________
1. Имеется ввиду третий собор, постановивший перекрещивать еретиков, возвращающихся в общение с Церковию. Бл. Августин. De baptizm contr. Donat. Lib 11 et. III opp. t. IX, p. 63-82.
_______________
И что же вышло из законодательства св. отца, из его приниципиального характера, твердости, уверенности в собственных взглядах? Приняла ли Церковь данное законодательство и связанные с крещением еретиков, взгляды Киприана? Как видим, нет.
Тогда насколько приемлема мысль Киприана (к тому же, исходящая из принципиальности и самоуверенности, как об этом говорится в искаженных текстах Э. Челидзе) касательно вопроса, по которому он высказывает личное мнение? И если вокруг окропительного "крещения" мы не видим столь горячей полемики, как в отношении крещения еретиков, то это, возможно, по причине, во-первых, того, что упомянутый вопрос был не так актуален, как правило приёма еретиков, и во-вторых, св. Киприан свой взгляд выказывал крайне "демократично" - позволял всем думать по-своему и действовать, как разумеют. И это, судя по словам Киприана, говорило также о перекрещивании обливательно крещенных христиан, потому как данная практика в ту пору никем не была отвергаема или подвергаема критике в Церкви, за исключением самого святителя, который проявлял немалую осторожность в данном вопросе.
19